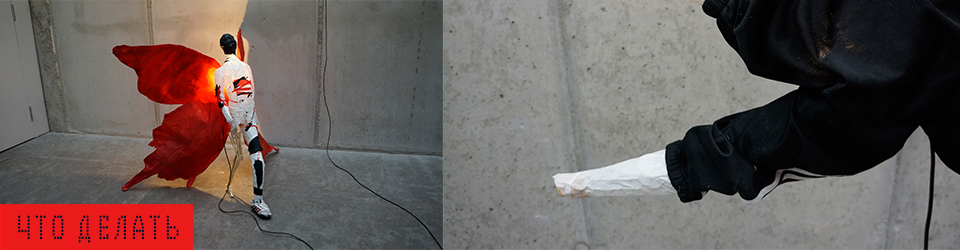I. Невероятные приключения итальянских концетпов в России
Начать разговор о концепции итальянского философа П.Вирно, изложенной в книге «Грамматика множеств»[1], непросто, поскольку в нашей интеллектуальной и политической среде ее ключевое понятие пока просто не существует. Прежде чем говорить о содержании работы Вирно, попытаемся сначала разобраться, как и почему это происходит. Нам также хотелось бы в рамках этого текста наметить основные линии, связывающие его тезисы с некоторыми темами современной философии, в особенности марксизма и «постмарксизма». Целью подобной работы могло бы стать создание условий для адекватной рецепции теорий «новых социальных субъектов», язык которых в нашем локальном пейзаже до сих пор звучит почти как марсианский.
1. Lostintranslation. В постсоветском теоретическом пространстве понятию «множеств», обозначающего новые типы социальных и политических субъектов, на удивление не повезло, начиная с перевода наиболее известной работы, манифестирующей целое направление современной мысли. В русском переводе «Империи» Т.Негри и М.Хардта множества (multitudes) названы просто «массами»[2]. Между тем,этот термин и был введен именно для того, чтобы, среди прочего, обозначить отличие новых социальных субъектов от феномена масс![3]
Удивляют также пренебрежительные и разоблачительные отклики со стороны вполне прогрессивных авторов, появившиеся в нашей интеллектуальной периодике после публикации перевода «Империи», например, статья Б.Ю. Кагарлицкого[4]. В своей критике Кагарлицкий принимает ошибочный термин «массы» из перевода. Как раздраженно пишет автор, видимо, не знакомый с оригинальным текстом «Империи» и не желающий разбираться в философских тонкостях: «Время от времени на страницах книги появляются какие-то … абстрактные “массы”, про которые мы знаем не больше, чем про абсолютные идеи старинной философии»[5]. И дальше – крайне симптоматичное прочтение, правда, скорее иронического толка: «По существу, Хардт и Негри предлагают нам новую версию младогегельянских идей — тех самых, с критики которых начинал формирование своей теории Карл Маркс. … В духе гегелевской эволюции абсолютной идеи развивается перед нами и идея Империи (от Древнего Рима, через перипетии Новой истории, к эпохе империализма), чтобы достичь абсолютного и полного выражения в современной глобальной Империи. Осознав себя в трудах Хардта и Негри, Империя завершает свою эволюцию»[6]. Ничего более противоречащего философскому подтексту «Империи», основанному на воинствующем антигегельянстве, опирающемся на новое прочтение Б.Спинозы, сказать просто нельзя[7]. Другой автор этой публикации надеется на «широкую интеллектуальную и общественную дискуссию», которую, как и в других странах, сможет породить перевод «Империи». Дискуссии, как можем видеть спустя год после выхода книги, вообще не состоялось. Подобный спектр реакций указывают на непонимание философских и политических проблем, стоящих за концепцией множеств[8].
При этом сам Б.Ю. Кагарлицкий развивает весьма спорную теорию «восстания среднего класса». Он связывает его «революционный потенциал» с кризисом социального государства и развитием новых информационных технологий[9]. Образ «бунтующего среднего класса», как указывает сам автор, стоит в ряду хорошо известных в 20 в. понятий и имен, от «восстания масс» О.и-Гассета до известного манифеста «восстания элит» американского политического философа К.Лэша. Основная фабула концепции такова: «Для того, чтобы умиротворить массы, их превратили в средний класс. Но элиты нарушили социальный компромисс. …И средний класс, нехотя и неожиданно для себя, вновь превращается в неуправляемую и бунтующую массу, которая так испугала буржуазных мыслителей в конце позапрошлого века»[10].Для нас важно, что концепция «революционного среднего класса» по своей интенции сходна с поисками итальянских теоретиков, направленных на выявление новых типов политической субъективности в условиях «когнитивного капитализма», когда общественное производство основано на коммуникативных и познавательных операциях. Однако Кагарлицкий не утруждает себя теоретической работой по конструированию концептов. Понятие «среднего класса» заимствуется из идеологического пространства либерализма, в котором это понятие функционирует прямо противоположным образом. Оно производно не от революционности, а от стабильности и общественной легитимации существующих капиталистических отношений. Естественно желание тактически «перехватить» язык враждебного политического лагеря. Однако трудно избавить его от традиционной смысловой нагрузки, укорененной в основах новоевропейской политической философии, начиная с Т.Гоббса. В сущности, понятие «среднего класса» – производное от политического и идеологического понятия «народа» как элемента новоевропейской метафизики суверенности (sovereignty). Речь идет об обосновании суверенности национального государства, когда политическая система, дестабилизированнаяреволюционным вызовом 1917 г., была вынуждена создавать себе широкую социальную базу поддержки. Концепт народа-суверена был идеологически транспонирован из устаревшей политико-теологической плоскости в классовую, социально-экономическую. Подобное смешение и сформировало политическую фикцию «среднего класса»[11]. Это гибридное понятие, соединяющее в себе старую политическую теологию народного суверенитета, и одновременно копирующее язык и семантику политического оппонента – марксистский пафос классовой гегемонии, учреждая средний класс как ведущий класс капиталистического общества. Но возможно ли перекодировать это понятие так, чтобы снова поставить его на место «гегемона», но уже в антикапиталистической стратегии? Вся «революционность» среднего класса выводится из кризиса социального государства (welfarestate), перестающего соблюдать условия общественного договора со средним классом как своим «народом». При этом «новые технологии», субъектом которых предполагается средний класс, рассматриваются в узко-инструментальном плане, что, в сущности, не предполагает радикального изменения содержания труда и самой субъективности работника. На наш взгляд, это дезориентирующее теоретическое предприятие, которое в «превращенной» форме отображает действительно важную проблематику.
Примечательно, что аналогичным образом строится образ «нового класса» как в консервативной, так и в либеральной мысли, которые явно или неявно оперирует той же терминологией элит и масс. Новый тип общества, в котором доминирует сектор производства знания, технологий, коммуникаций, управления сложными процессами, выделяет новую элиту – слой «креативных работников», знания и способности которых рассматриваются как неотчуждаемые. Этот класс потенциальных «новых господ» мыслится как вершина возникающей социальной иерархии, якобы отменяющий прежний классовый порядок, основанный на собственности на средства производства[12]. Концепции подобного толка, с откровенно пренебрежительным тоном по отношению к традиции, идущей от Маркса, также довольно широко распространены в отечественной гуманитарно-публицистической сфере[13].
В отличие от подобных теорий, концепции итальянского автономистского марксизма говорят о «гегемониальности» новых типов труда. Это означает не воображаемое «господство» образующихся на его основе субъектов, а о трансформацию всего общества под знаком этой гегемонии[14]. Доминирование нового типа труда не отменяет присутствия капитала, структуры извлечения прибавочной стоимости, а значит, и эксплуатации новых социальных субъектов. С другой стороны, возникающая субъективность, наделенная значительными интеллектуальными потенциями, открывает новые перспективы освобождения. Понятие множеств выстроено таким образом, чтобы вывести из игры дихотомии консервативного дискурса вроде масс и элит, а также аналитически различать смысловые измерения, не позволяя теории попасться в ловушки политической теологии государства, или псевдо-классовых идеологических концепций. Понятие множества располагается, по крайней мере, в трех измерениях. Оно имеет классовый аспект и дополняет традиционное понятие рабочего класса, охватывая весь спектр труда – от традиционного индустриального и аграрного до сервисного, коммуникативного и интеллектуального. В политическом плане оно противопоставляется концепции народа-суверена как легитимирующей основы новоевропейских национальных государств. Наконец, как социальное явление, оно отличается от феномена стандартизированных и механически агломерированных масс как проявления ушедшего в прошлое «фордистского» общества.
2. Упрощения «постиндустриализма» и реакционная роль теории капиталистической периферии. Последний термин также важен для понимания особенностей локальной рецепции «Империи». Понятие «постфордизма»[15] используется итальянскими теоретиками, чтобы дистанцироваться от редукционистских теорий «постиндустриального общества», распространившихся на Западе начиная с 70-х гг (Д.Белл, Дж.Гелбрайт и др.). В постсовесткой социальной мысли до сих пор преобладают концепции и терминология «постиндустриального общества». Как определяющий фактор общественных трансформаций эти теории рассматривают развитие «четвертого сектора» экономики (знание, коммуникативные технологии и пр.). При этом выстраивается образ «нового общества», в котором снимаются многие противоречия классического индустриального капитализма, что побуждает некоторых ангажированных теоретиков возвещать приход некоего «посткапиталистического» общества. Напротив, в концепции «множеств» постфордизм означает формирование новых осложнений и противоречий, связанных с изменениями «живого труда», когда производительной силой становятся не только экстериорные технические инновации и информатизация производства, но сама имманентность человеческого «мозга» как безмерной потенциальности производства идей, аффектов, лингвистических актов. Речь идет о фундаментальном сдвиге, преображающем саму антропологическую структуру,поскольку он включает в процесс общественного производства сущностные силы человека – язык и мысль[16].
В «сопротивлении» теориям новых социальных субъектов есть и другой важный теоретический и практический аспект. Социально-философская терминология, предлагаемая итальянскими теоретиками, создает немало трудностей при ее включении в публичное пространство локальных дискуссий. Так, автор статьи был поставлен в довольно затруднительное положение, когда на одном из обсуждений, на котором присутствовали левые активисты, его попросили объяснить, «что же такое множества». Термины вроде «имматериального труда» звучали бы крайне неорганично и фальшиво в среде политических активистов, которые отстаивают интересы людей, вынужденных заниматься ежедневным выживанием и занятных во вполне «материальных» процессах. Подобный опыт вызывает соблазн предположить, что это непонимание и трудности при объяснении имеет основу в особенностях самой нашей локальной реальности, в которой эти концепции имеют слабые референты, а сам тип общества нельзя в точном смысленазвать «постфордистским».
Однако не состоит ли дело также и в том, что над нами довлеют некоторые интерпретации, которые натурализовались, и стали «описаниями» нашей ситуации, за псевдоочевидностью которых мы не замечаем важные изменения? Помимо концепции индустриального/постиндустриального обществ важную роль в обосновании такой негативной теоретической легитимации локальной специфики играют популярные теории капиталистического центра/периферии (полупериферии). В них локальная ситуация распознается и узаконивается, легитимируется как социально-экономический феномен «капиталистической периферии». Эти теории, возникшие еще в 60-е гг. 20 в. в работах Г.Франка, Э.Валлерстайна и других социологов и экономистов левой ориентации, были призваны объяснить процесс неравномерного развития, отсталости и зависимости экономик «третьего мира». Для этого было необходимо включить в традиционную марксистскую политэкономию фактор национальных государств и их взаимодействия впроцессах «мироэкономики».Очень грубо общие положения миросистемного анализа можно сформулировать следующим образом. (1) В рамках мироэкономики в соответствии с экономическими закономерностями образуются гегемониальные зоны центра с одной стороны, и зависимые и отсталые зоны периферии – с другой. (2) Эта структура глобального экономического распределения определяет социальные, политические и культурные особенности тех и других зон, вместе с субзонами национальных государств. Основным пафосом этой школы было разоблачение либерально-прогрессистских теорий “догоняющего” развития, которые предполагали естественный процесс, в ходе которого отсталые страны“подтянутся” к развитым. Теоретики вроде И.Валлерстайна, напротив, доказывали, что сама капиталистическая миро-система определяет неравенство в развитии, продуцируя и воспроизводя отсталые регионы.
Не оспаривая научное значение этой школы и ее прогрессивную роль в определенный исторический момент, рискнем предположить, что этот комплекс идей сейчас играет крайне реакционную и консервативную роль именно в тактическом локальном контексте предполагаемой “периферии” или “полупериферии”[17]. Он легитимирует все отвратительные особенности ее политической и социальной культуры, связывая ее с непреложной объективностью экономических законов. Например, позволяют «научно» узаконить смешение левых и религиозно-националистических идей в местной «реальной политике», как это делают некотоыре идеологи, компрометируя тем самым небольшие группы ненационалистических левых. Как “научное” алиби звучат объяснения такого смешения как феномена, якобы характерного для «периферийного капитализма». Так или иначе, подобная навязчивая натурализирующая репрезентация statusquo – периферия, центр – позволяет комфортно чувствовать себя теоретикам и активистам обеих зон, постоянно обмениваясь благими пожеланиями: одним намекать на то, что их союзники из из зоны “центра” слишком увлечены теорией и не замечают “реальных проблем третьего (второго) мира”, а другим выражать абстрактную “международную солидарность” с первыми.
Развитие самой экономической теории в последнее время позволяет говорить о значительной диффузии оппозиции центра/периферии. Ведущие теоретики последнего поколения школы миросистемного анализа, в частности, Джованни Арриги, утверждают, что центр мировой экономической гегемонии в настоящий исторический момент трансформируется и меняет свое местоположение.В связи с этим прежние распределения миросистемы ослабляются – в условиях глобального “переходного периода”, связанного с ослаблением экономической гегемонии традиционных стран-лидеров “центра”, прежде всего США[18]. Недавние проявления империалистических амбиций США Дж. Арриги рассматривает не как проявление силы, а как объективный феномен кризиса политико-экономической гегемонии, когда ее шаткое положение пытаются компенсировать скоротечнымиполитическими и экономическими выгодами от милитаристской агрессии.
Собственно, эту тенденцию на философском уровне и выражают авторы “Империи”. Негри и Хардт оспаривают разделение на «первый» и «третий» мир в самой онтологической конструкции современного “имперского” миропорядка, указывая, что очаги третьего мира, или периферии, есть в эмигрантских гетто первого мира, и очаги глобального “центра” – в регионах периферии. Сохраняющееся представление о локализованном мировом “центре” является скорее резидуумом новоевропейских политико-теологических репрезентаций суверенности национального государства, которые в новом порядке уже не функционируют. Сопротивление этому порядку основывается на общности более фундаментальной, чем локальные различия. Как пишет итальянский критик М.Скотини, “… нет более оснований считать, что внутри “империи” есть зоны более развитые, а есть более отсталые; “империя” – это реальность схожих и нерасторжимо переплетенных проблем. А поэтому столь распространенное до недавних пор противопоставление центра и периферии становится отныне совершенно бессмысленным: глобальное пространство современного мира есть общее пространство политизации”[19].
Таким образом, не следует думать, что социальная феноменология постсоветского общества является чем-то “периферийным” по сравнению с интернациональными тенденциями. Здесь, особенно в крупных городах, мы видим те же черты, которые стали отправной точкой для размышления итальянских теоретиков. Множественные и разнородные общности, оставленные советским Левиафаном, пройдя фазу шока и дезадаптированности, начинают “жить своей жизнью”. Они создают несводимое к унифицированному классовому или национальному стилю разнообразие субкультур и образов жизни. Структура общественного труда все более плюрализируется и “прекаризируется”, лишаясь гарантий стабильной занятости. Постсоветские множества самоорганизуется вне логики государственной суверенности. Значительноую долю в их количественном составе занимают мигранты, т.е. люди, defacto живущие вне юрисдикции своего национального госудрства. Эти множества скорее аполитичны в традиционном смысле слова, поскольку трезво и даже с долей цинизма оценивают возможности “представления своих интересов” в ригидных и коррумпированных структурах официально провозглашенной репрезентативной демократии. Не случайно местом наиболее полной визуальной выраженности присутствия множеств можно рассматривать пространство городского метрополитена, подземки: они словно находятся в неком диссидентском “андерграунде”, который парадоксальным образом носит глобальный и массовый характер. Политизация этих новых гетерогенных множеств, выделившихся из “единого и неделимого советского народа”, поначалу развивается опасным и негативным способом. Недавнее оживление националистических и этатистских тенденций является здесь ярким примером. Идеологи право-консервативного толка спекулируют на ситуации “бездомности”, длящейся с отступления советского Левиафана, предлагая множествам, пребывающем в тревоге и поиске стабильности, иллюзорные идеологические образы нового порядка суверенности и “сильного государства”. Не видеть этих глобальных социальных и политических изменений в нашем локальном преломлении – значит не оставлять шанса новой левой политике, которая могла бы противостоять этим угрозам.
Разумеется, эти новые тенденции, в свою очередь, автоматически не легитимируют теории новых социальных субъектов в нашем контексте, хотя и создают для этого важные предпосылки. Концепт множеств, который противопоставлен архаичному политико-теологическому конструкту суверенности, подпитывающему в своем затянувшемся разложении активностьультраправых, может оказаться важным критическим инструментом в борьбе с протофашистскими трендами; его классовый аспект более точно рефлексирует положение наемных работников “нематериального производства”, включая их в интернациональный контекст анализа общемировых трансформаций; наконец, отличение множеств от феномена толпы позволяет нейтрализовать “массофобские” страхи, связанные с текущим возрождением политической активности граждан и с возрождением “уличной политики”[20]. С другой стороны, концепт множеств, и сопутствующие ему понятия – это не беспроблемный теоретический продукт, который легко импортировать и “применить”. Это рабочее понятие современной политической философии, которая критически обнажает его амбивалентность как “теории в становлении”.
Наша длинная экспозиция была необходима, чтобы прояснить общую понятийную и проблемную структуру рецепции интересующих нас теорий (поиск новых социальных и политических субъектов, массы/элиты, индустриальное/постиндустриальное общество, центр/периферия) и, соотвественно, некоторые причины отторжения интересующих нас теорий, а также обратить внимание на возможные предпосылки для их актуализации. Обратимся теперь к книге П.Вирно, который дает насыщенную вариацию на интересующую нас тему.
II. П.Вирно: политическая активность и философская работа
Как справедливо пишет один из комментаторов, книга Вирно «Грамматика множеств» невелика по объему, но «отбрасывает длинную тень» в интеллектуальную и политическую историю нашего настоящего. До сих пор лишь эта книга и отдельные статьи итальянского философа были переведены на английский язык и включены в интернациональный контекст[21]. За небольшими исключениями, работы итальянского философа у нас известны скорее в довольно узкой среде ориентированного на актуальную теорию современного искусства, а также в пространстве политического активизма «нового левого» типа. Поэтому для начала стоит просто сообщить некоторые общие сведения об авторе.
Биография Вирно во многом схожа с историями других политизированных интеллектуалов «поколения 68 года»[22]. С конца 60-х гг. он участвовал в борьбе итальянских левых в группе «Potere Operaio» («Власть рабочих») вплоть до распада этой группы в 1973 г. В 1979 г. Вирно вместе с членами редакции политического журнала «Metropoli» был арестован в связи с обвинением в участии в деятельности леворадикальных «Красных бригад». Вирно провел в предварительном заключении около трех лет, пока обвинения не были сняты (окончательно процесс завершился в 1987 г.). В дальнейшем Вирно дистанцируется от «милитантной» политической активности, хотя продолжает участвовать в некоторых интеллектуально-политических инициативах. Например, в 90-х гг. он принимал участие в политическом проекте Disobbedienti (“Неподчиняющиеся”), в сообществе Luogo Comune («Общее место»), выпусткающем одноименный журнал и проводящем теоретические дискуссии.
«Я всегда думал, что моя философская работа соотносится с политической активностью, поскольку я рассматриваю выработку некоего нередукционистского материализма как важное условие критики капитализма, борьбы против капитализма», – решительно говорит Вирно сейчас, спустя почти 20 лет после упомянутых событий. В 70-х гг. Вирно защитил диссертацию «Концепция труда и теория сознания у Т.Адорно» (1977). Развитие итальянского теоретика происходило в движении от исследования концепций Франкфуртской школы к философскому обоснованию и анализу оригинального понятийного аппарата, сложившегося в рамках итальянского «операизма», или автономистского марксизма. Основные направления и темы его исследований в 80-е и 90-е гг.: современная философия, понимаемая как развитие «лингвистического поворота» в теории, этическое измерение языковой коммуникации, понятия субъективности, мира, потенциальности, исторического времени.
Вирно не отказался от своего политического прошлого участника автономистских интеллектуально-политических групп, развивая ряд общих концепций этого направления – «имматериальный труд», «множества», «исход». Политическая теория операизма (дословно – «пролетаризма»), от которой отталкиваются зрелые концепции ее современных представителей, была весьма еретической формой марксизма.
Во-первых, операизм, разновидность итернационально распространенного автономистского марксизма, еще в 60-е гг. оспаривалтрадиционные марксистские ценности «освобожденного труда», говоря о недопустимости «редукции жизни к труду». Он не проектировали общество неотчужденного, свободного труда в рамках индустриального конвейера, считая, что фордизм как форма его организации должен уступить место обществу, производство в котором основывается на знании и технологиях. Важным для операистов был негативный опыт СССР, который представлялся оплотом партийной бюрократии и фордистского администрирования, которые лишь усилили эксплуатацию рабочих. Соответственно, основной политической стратегией был отказ от работы в рамках системы Форда, чтобы вынудить капитал форсировать развитие производительных сил, новых технологий. В дальнейшем эта тактическая линия была генерализирована как стратегия «исхода»[23].
Во-вторых, центр теоретического и политического интереса операисты перенесли на субъективность наемного рабочего, «живого труда». Операисты практиковали своего рода «квесты» (inchiesta operaia), или casestudies в рамках конкретного производства, изучали технологии саботажа и прочих способов сопротивления вне рамок бюрократической партии и этаблированных профсоюзов. Наемные работники – прежде всего класс для себя, вне всякого диалектического опосредования, которое неизбежно включает партию как «инструмент классового самосознания». Уже в конце 60-х гг. теоретик операизма Серджио Болонья призывал к концентрации политического внимания на “новом социальном субъекте”, переходе от “массового рабочего” к “общественному”, связанных с включением самой социальности, коммуникации в процесс производства. Итальянский операизм был скорее маргинальным и исторически проигравшим течением, поскольку в 60-70-е гг. на Западе доминировал гуманистический “еврокоммунизм”; в настоящее же время операистские теории и философские идеи его участников переживают настоящее возрождение, в условиях “общества знания” обозначая перспективу новой политизации.
III. Множества и имматериальный труд
Обрисованный в общих чертах интеллектуальный и политический горизонт следует учитывать при знакомстве с тестом Вирно «Грамматика множеств». «Грамматика» у Вирно, помимо акцента на особой роли языка в формировании новых социальных субъективностей, означает процедуру встраивания понятия множеств в различные традиции и контексты философского размышления – от Аристотеля и Гоббса до Т. Адорно и Х. Арендт, включая менее известные имена вроде соратника Ж. Делеза Жильбера Симондона (GilbertSimondon). Мы выделим здесь несколько тезисов книги, хотя к ним весь ее идейный комплекс, несомненно, не сводится.
1.Множества и публичная сфера. Генеалогия концепта множеств восходит, согласно реконструкции Вирно, к 17 в., когда формировались философские основания политической конструкции национальных государств Нового времени. Понятия и категории социальной и политической мысли, которые сейчас кажутся тривиальными, были «изобретены» именно в этот период. В это время в политической мысли конкурировали два понятия – народа (populus) и множества (multitudo), связанные соответственно с именами Т.Гоббса и Б.Спинозы[24]. Если понятие “народа” выделяет единство политического тела, предикатом которого становится форма централизованного государства, то в понятии множества обнаруживается возможность мыслить политическую и социальную субъективность вне трансцендентного и унифицирующего единства. Если предикатом народа является “трансцендентное” государство, то предикатом множества – “имманентная” публичная сфера: “Для Спинозы multitudo указывает на плюральность, которая удерживается как таковая на публичной сцене, в коллективных действиях, в общественных делах, не сливаясь в Единое, не испаряясь в центростремительном движении»[25]. Множества есть форма социального и политического существования многих, взятых именно в качестве многих. Для Гоббса множества как нередуцируемая плюральность представляют величайшую опасность для государства. Это «враг государства», который оспаривает его основания – монополию на принятие решений от имени всех граждан, передачу «естественных прав» суверену, юридически фиксируемые договоренности. В рамках известной истории политической философии дихотомии «природного», «естественного» и «гражданского», «цивилизованного» состояний лишь политическая форма народа (populus), неразрывно связанная с существованием государства, способна предотвратить возвращение в дикость «природного состояния».
В итоге ожесточенных дебатов понятие множеств было интерпретировано как феномен варварской и неподчиняющаейся государственной воле толпы, и надолго исключено из сферы политической мысли. Эффект множества сохраняется в виде слабых следов или неразрешимостей базовых социально-политических оппозиций: публичного и приватного, индивидуального и коллективного. В либеральной мысли публичное понимается как цензура приватного, как его “депривация”, не позволяющая опасным содержаниям приватной жизни быть доступными общественности, получить в ней свой голос. Именно в этом смысловом резонансе слышится эхо множеств. В левой традиции измерение множеств спрятано в негативных обертонах индивидуального как бессильного по сравнению с мощной коллективностью, мыслимой под знаком партии и государства. В конце большого политического цикла, когда прежние разделения размываются, а старые формы государственной суверенности сотрясает кризис, концепт множеств наконец получает свой шанс.
Современным проявлением множеств как “формы жизни” является опыт “неукорененности”, мобильности, неопределенности, тревоги и поиска безопасности в изменившихся социально-политических условиях. Вирно обращается к хайдеггеровской оппозиции страха и тревоги. Страх имеет своим предметом конкретную вещь или феномен мира, тревога же вызываетсяугрозой самому существованию, т.е. с ничто (Nichts). Если рассматривать эти категории в социальном плане, то страх связан с вещами, находящимися внутри опыта конкретной общности людей, а тревога – с тем, что ей внеположно. Если концепт «народа» предполгает четкие границы общности, и тревогу вызывает то, что ей внеположно (скажем, зловещие «шпионы» и прочие «враги народа»), то множества не подчиняются такому распределению: «внутри» и «вне» для них не существует, соответственно нельзя более различить страх и тревогу. Так, потеря работы вызывает конкретный страх, но связана и с тревогой как опытом неопределенности. Учитывая, что гибкость и подвижность современного рынка труда стимулирует частую смену работы, это состояние тревоги и неукорененности становится перманентным. Ранее эти широко распространенные сейчас социальные страхи и тревожности, ощущение «бездомности» (М.Хайдеггер), обычно переносились на то, что находилось «за стенами» общности, города. Сейчас эта конвергенция страха, тревоги и бездомности является базовым «опытом мира» для современных множеств, исключенных, в отличие от народа как политического тела, из зоны действия традиционных механизмов безопасности, связанных с политико-теологической функцией государства[26].
Описание аффективных феноменов множеств дополняются анализом их особой рациональности, связываемого с понятием «всеобщего интеллекта». В ключевом для операистсткой теории классическом тексте, который у нас переводится как «Экономические рукописи 1857-1859 гг.»[27], Маркс без перевода пользуется английским словосочетанием generalintellect. Под этим термином он понимает науку, знание в целом, в том числе и практическое, на которое все больше и больше опирается современное производство. Тема «всеобщего интеллекта» близка понятию «реальной абстракции», крайне важной для всей социальной онтологии Маркса: само общество устроено так, что некоторые важные абстракции, имматериальные сами по себе, являются необходимым условием вполне реальных процессов. Так, деньги как абстрактная мера стоимости в капиталистическом обществе обуславливают предметно-конкретные акты обмена, в этом смысле являясь реальной «движущей силой». Точно также и «всеобщий интеллект» становится движущей силой производства. Отличие современных интерпретаций в том, что если Маркс считал, что «всеобщий интеллект» объективирован в системе промышленных машин, то современные теоретики вроде Вирно связывают его с субъективностью и живым трудом. Сама мысль, речь в условиях постфордизма становится производящей «машиной».
Здесь Вирно обращается к интересующей его сфере языковой прагматики. Рациональности множеств соответствует общая, родовая (generic) языковая компетенция, «общие места» речи и аргументации[28]. Эти общие логико-лингвистические формы задают необходимые для практической ориентации в мире, где все «специальные места» прагматики языка (социолекты, профессиональные, корпоративные идиомы) уже не могут быть выполнять эту роль, теряют свое нормативное значение. Отношение «фона» и «переднего плана» в языковой прагматике переворачивается: вперед выступают и включаются в человеческую активность именно обобщенные, родовые элементы. Размывание специализированных языковых кодов делает интеллектуальную активность множеств, опирающиеся родовые категории языка и речи, непосредственно публичной, социальной. Это понятие публичного интеллекта противостоит классической традиции, которая увязывает мышление с приватностью, уединенностью, отдаленностью от сообщества, понимаемого как унитарное тело. Современные «бездомные» множества есть собрания отделившихся от традиционных сообществ единиц.Все они «обязаны» получить статус мыслителей, поскольку они вынуждены обращаться к самым общим или даже «философским» категориям, чтобы ориентироваться в мире, даже если они не читают книг и владеют лишь базовым школьным курсом знания[29]. Как пишет Вирно, современная «интеллектуальность масс не связана с актами мысли (книги, математические формулы и т.д.), но с простой способностью (потенциальностью) мысли и вербальной коммуникации»[30].
«Всеобщий интеллект» множеств создает странный феномен публичности без традиционной публичной сферы, которая связана с мифами и ритуалами государства как высшего суверена[31]. Подобная публичность, как родовая сила мысли и коммуникации, вышедшая на передний план, но не обладающая адекватным пространством политической артикуляции, образует негативный аспект опыта множеств, возможность связывания потенциальности множеств в новой унифицирующей репрезентации[32]. Итак, парадоксальное единство множеств задает не «общая воля» (Ж.-Ж.Руссо) народа, предполагающая государство, а более широкая универсальность «всеобщего интеллекта», который пока остается вне политического пространства. Этим современное множество отличается от коммунальных и республиканских множеств 17 века[33], эпохи зарождения национальных государств, вытеснившее этих субъектов из социального поля.
2. Гегемония имматериального труда и «виртуозность». Множество – по меньшей мере, двузначный концепт. Он связан с кризисом политической формы государства и его предикатов (народ), и одновременно указывает на новый тип общественного производства, основанного на знании и языке. Некорректно говорить о замещении прежнего понятия «рабочего класса» понятием «множества», что определяется упомянутой многомерностью и смещением относительно классических категорий (народ, класс, масса).Современный рабочий класс скорее носит характер множеств, существует в его модусе. Он не унифицирован, как в рамках прежней политической форме «народа», стремящегося захватить государственную власть и основать свое пролетарское государство; рабочий класс дифференцирован и индивидуализирован, при этом тот или иной труд больше не означает «приговора всей жизни». Между «жизнью» и «трудом» возникает больший зазор, чем раньше – в связи частой смены работы, миграционными возможностями и пр.
При сохранении капиталистической структуры общества важные изменения произошли в самом содержании труда. Если в 19- первой половине 20 в. индустриальные рабочие, при их относительной малочисленности были ведущим и революционным классом, в котором была сосредоточена «истина» этого времени, как сказал бы Георг Лукач, то в эпоху постфордизма она сменяется гегемонией «имматериального труда». Это гегемония – как качественное, а не количественное понятие – не отрицает прежних социальных субъектов (аграрных и индустриальных рабочих), а скорее включает их в свое пространство, что связано со все большей ролью, которую интеллект, коммуникация и язык начинают играть в любом труде[34].
Новый тип труда вполне материален по своему процессу, но его продукты носят имматериальный характер[35]. Например, «приветливая улыбка» как часть работы официанта в кафе произведена вполне телесным мимическим процессом, однако сама улыбка, подобно парадоксальной улыбке Чеширского кота из книги Л.Кэролла, имеет другой онтологический статус – событийный, перформативный. Чтобы не пользоваться апофатической терминологией «имматериальности», можно также сказать, что процесс такого труда совпадает с его результатом – это деятельность, результат которой не объективируется в продукте. При этом она требует присутствия «других», аудитории, публичной сферы. Эти особенности взаимосвязаны: не производя «конечного продукта», исполнитель вынужден опираться на свидетельство других. Для характеристики этого феномена Вирно вводит важное понятие виртуозности: помимо указанных выше параметров, это еще и учет случайного, непредвиденного, а также импровизация.Происхождение этого понятия Вирно возводит к «Никомаховой этике» Аристотеля. Древнегреческий философ отличает производительный труд (poiesis) от политического действия (praxis), используя эту характеристику, т.е. отделяя выполнение действия ради материально фиксированного результата от действия, производимого ради самого его виртуозного исполнения. Следующим шагом в размышлении Вирно является утверждение о структурной неотличимости некоторых видов труда (прежде всего, исполнительского) от политического действия. Вирно опирается на следующее проницательное замечание Х.Арендт: «В самом деле, исполнительское искусство … имеет глубинное сродство с политическим действием. Выступающие танцоры, актеры, музыканты и подобные им исполнители нуждаются в аудитории, чтобы продемонстрировать свою виртуозность, также как [политически] действующие люди нуждаются в тех, перед кем они выступают. И те, и другие нуждаются в публичном пространстве для своей “работы”; они зависят от других для того, чтобы исполнение [performance] состоялось»[36]. Таким образом, «виртуозный» труд без конечного продукта имеет латентное политическое измерение, а его гегемония придает и другим типам труда те же качества и тенденции[37].
Исторически парадигмой «виртуозного» производства, по Вирно, является та самая «культурная индустрия» (Kulturindustrie), критическому анализу которой посвятили свои работы философы Франкфуртской школы. Если Адорно не видел в этой системе ничего, кроме коммерческой профанации, овеществления искусства и культуры по законам, аналогичным механистическому индустриальному производству, то Вирно обнаруживает ее особую позитивность, которая раскрывается лишь в «постфордистской» ситуации. Культурная индустрия становится моделью, «каноном» нового способа производства, в котором ключевую роль играет виртуозность. Если в «Диалектике просвещения» Адорно и Хоркхаймер рассматривали современную им культуриндустрию (массовую литературу, кино, радио, телевидение) как «фабрики души», демонстрирующие, что конвейер и специализация внедряются в святая святых человеческого духа, то Вирно показывает, что в фокус этого анализа не попали некоторые малозаметные детали «непрограммируемого», «неформализуемого». Для франкфуртцев эти явления – языковая виртуозность, импровизация, артистизм поведения и пр. – были ностальгическими остатками прошлого, которые оставались малозначительными на фоне общей «фордизации» культуры. В интерпретации Вирно, они, напротив, предвосхищали будущее. Если раньше культуриндустрия несла на себе отпечаток промышленности, то теперь само производство, как имматериальное, так и имматериальное, организовано по моделям, задаваемым культуриндустрией[38]. Подобной же интерпретации, выявляющей скрытые смысловые моменты, Вирно подвергает и другую известную теорию – концепцию «общества спектакля» французского марксиста Ги Дебора. Если для Дебора «спектакль» – это человеческая коммуникация, образы и высказывания, ставшие одновременно товаром и способом контроля в потребительском обществе, то для итальянского теоретика он амбивалентен, имеет «двойную природу». Это «особый товар отдельной индустрии, но одновременно и квинтэссенция способа производства в целом»[39]. Эта индустрия, производящая сами средства производства «постфордистского» общества – техники поведения и коммуникации, лингвистическо-когнитивные компетенции, которые функционируют во всех областях производства[40]. Все это совсем не означает, что традиционное индустриальное производство «умирает» или исчезает. Момент того, что Маркс называл «общественной кооперацией», т.е. коммуникация и взаимная координация в ходе производства, приобретает в нем те же черты «виртуозности», а рутинные механические процедуры отступают на задний план[41].
Итак, важные трансформации труда, превращающие его в перформативный, виртуозный, коммуникативный, вводят его структурное уподобление политическому действию. Однако, как мы уже замечали, множества с их «всеобщим интеллектом» описываются в контексте разрыва с новоевропейской логикой суверенности государства и его политических институтов – от уинфицирующего понятия «народа» до процедур и ритуалов представительской демократии. Политическая неактуализированность, т.е. потенциальность множеств проявляется в феноменах негативного характера: с одной стороны, труд множеств имеет тенденцию стать «сервильным» трудом, связанным с архаичной формой личной зависимости, с другой стороны – политически он выявляется лишь через неподчинение и «бегство» (или «исход»). «Всеобщий интеллект» как способ неунифиуцирующей связи множеств при отсутствии публичной сферы имеет тенденцию к объективации в в громоздком бюрократическом аппарате администрирования постфордистского общества. Отсюда – современная видимость «деполитизации», которая в 70-е-80-е гг. 20 в. была интерпретирована как «смерть» политического у теоретиков вроде Ж.Бодрийяра, или – более осторожно и философски артикулированно – как его «отступление» (Ж.-Л.Нанси, Ф.Лаку-Лабарт)[42]. По мысли Вирно, политическое скорее потенцируется, уходит из обветшавших форм и институтов государства, скрыто аккумулируясь в пространстве имматериального труда и новой универсальности «всеобщего интеллекта», ожидая своего часа для актуализации в других пространствах политического действия.
3. Субъективность множеств как форм жизни. Вопрос об артикуляции политического действия в его переплетении с проблемами нового труда приводит к вопросу о форме субъективности множеств. Форма множеств не есть форма монолитной коллективности; множества состоят из индивидов или «сингулярностей»[43]. Как указывает Вирно, в понятии множества можно усмотреть близость с классическим либерализмом, поскольку оно придает ценность индивиду в смысле сингулярности, несводимой к трансцендентному принципу единства. Однако мышление множеств радикально отличается от этой традиции, посколькурассматривает сингулярное как результат процесса индивидуации, проистекающего из до-индивидуального материала, из универсального родового (generic) антропологического опыта. Вирно обращается здесь к анализу процесса индивидуации, основываясь на концепции Жильбера Симондона[44]. Во-первых, как до-индивидуальная реальность здесь выступает то, что разделяется всеми людьми: чувственные данные, моторные схемы, перцептивные возможности. Видят, чувствуют, слышат и т.д. – это функции анонимного доиндивидуального поля. Родовая способность к языку также является доиндивидуальной. Однако языковая сфера содержит и возможность индивидуации как перехода от языка как родовой способности к частному речевому акту. Наконец, исторически сложившиеся производственные отношения также являются доиндивидуальными. В современном производстве задействованы наиболее универальные, родовые способности и качества человека: восприятие, память, эмоциональность. Эти базовые анонимные способности, а также объективированный в публичности “всеобщий интеллект” становятся основными производительными силами.
Таким образом, множества состоят из “индивидуализированных индивидов”, за которыми стоит гетерогенные доиндивидуальные силы. Как особо подчеркивал Ж.Симондон, индивидуация никогда не бывает завершенной, доиндивидуальное никогда полностью не переводится в сингулярность. Субъект и есть это переплетение и, возможно, даже борьба индивидуализированного с доиндивидуальным, единичного с анонимно-универсальным. Исходя из такого описания субъективности, Симондон противопоставлял свою концепцию стандартным представлениям о том, что коллективность есть нечто, что подавляет и поглощает единичное. Именно столкновение с коллективностью позволяет отчеканить сингулярное, довести индивидуацию до ее возможного предела. В отличие от центростремительной коллективности “народа”, коллективность множеств означает высший уровень индивидуации, делающим невозможнным передачу полномочий суверену (госудрству); подобная индивидуация и связывается с возможностью нерепрезентативной демократии[45].
Зачатки подобного анализа отношений между сингулярным и родовым как доиндивидуальным Вирно обнаруживает в известном словоупотреблении Маркса, писавшем об “общественном индивиде”. Вирно переводит “социальное” как родовое и доиндивидуальное (язык, перцептивная сфера, производительные силы), а сингулярное – как следствие процесса индивидуации. Он делает весьма нетривиальный вывод, рассматривая этот аспект наследия Маркса с точки зрения современного состояния теории как доктрину индивидуализма в строгом смысле слова, т.е. как теорию индивидуации.
Вирно противопоставляет эту марксистски фундированную концепцию другим современным подходам, прежде всего постфукианскому, рассматривающему индивидуацию и субъективацию как часть более широкой стратегии “биополитического” управления самой жизнью. Подход М.Фуко и следующих в его русле авторов не отвечает на вопрос: почему жизнь индивида стала центральной точкой приложения властных стратегий? В самом деле, генеалогические анализы Фуко лишь демонстрируют все более пристальное внимание, уделяемое властью рационализации и контролю за жизнью граждан. Гипотезы, объясняющие пришествие “биополитики” строятся исходя из предположения некой внутренней эволюции стратегий и техник власти, и связываются в основном с эффективностью и экономичностью новых типов управления[46]. Для Вирно ответ лежит в плоскости политэкономии Маркса, прочитанной в этом проблемном ключе. Властный интерес к жизни связан с механизмами капиталистического производства через понятие рабочей силы, детально проанализированном в “Капитале”: «Рабочая сила существует только как способность живого индивидуума»[47]. Это потенциальность (способность) к труду как родовая (generic) антропологическая способность. В капиталистической экономике наемного труда она принимает форму товара: «Чтобы ее владелец мог продавать ее как товар, он должен иметь возможность распоряжаться ею, следовательно, должен быть свободным собственником своей способности к труду, своей личности»[48]. Рабочая сила как «живой труд» противопоставляется Марксом «мертвому» труду, т.е. актуализации потенциальности рабочей силы в отчуждаемых продуктах производства. В позднекапиталистическую («постфордистскую») эру рабочая сила совпадает с полным объемом сил, образующих саму форму человека, – от физической мощи и подвижности до способности восприятия и внимания, языковой компетенции и интеллектуальных операций. Жизнь (bios) рабочего, его тело – это и есть вместилище этой чистой родовой потенциальности рабочей силы. Она не есть нечто существующее (non–presence), присутствующее в материальной форме, однако включена в отношения спроса-предложения рынка рабочей силы.Капиталисты покупают саму способность нечто производить – как «живой» и персонализированный труд, как самый важный товар, поскольку он производит прибавочную стоимость.Таким образом, парадокс рабочей силы, которая сама по себе является «имматериальным» товаром – предпосылка «биовласти» и «биополитики». Жизнь становится объектом власти не в силу некой субстанциональной ценности, а в силу необходимого отношения, которое она поддерживает с потенциальностью рабочей силы.
Обогащая содержание своего центрального понятия, Вирно описывает другие свойства множеств как субъективности: их эмоциональные тональности (цинизм и оппортунизм как отсутствие четкой позиции, а также «нигилизм»), связанные с ними экзотические феномены вроде хайдеггеровских «болтовни» и «любопытства» как атрибутов анонимного dasMan, которые интерпретируются как позитивные характеристики, выводимые из характера виртуозного труда. Свойства и феномены, традиционно воспринимаемые негативно в этическом и онтологическом плане (как «неподлинное» существование), становятся необходимой частью современной трудовой виртуозности, обретая свою функциональность и позитивность: «Это когнитивная и поведенческая реакция на современного множества на тот факт, что рутинные практики более не организуются вокруг четко прочерченных линий; напротив, они представляют высокую степень непредсказуемости»[49]. Болтовня и любопытство как упражнение коммуникативной и когнитивной способностей также становятся важными симптомами постфордистского способа производства. С другой стороны, интеграция этих феноменов, ранее бывших скорее атрибутами всевозможных оппозиционных сил внутри капиталистического общества, в процесс «виртуозного» труда указывает на особую адаптивность и «революционность» самого капитала, на которую указывали еще авторы «Коммунистического манифеста».
Завершая изложение и анализ основных моментов концепции Вирно, можно сказать, что в целом этот подход к новым социальным субъектам и их перспективам сдержан и аналитичен, в отличие от синтетических «больших повествований» Негри-Хардта, крупными мазками рисующих битву множеств с «Империей» на страницах одноименной книги. Программа-минимум Вирно – инициировать процесс политизации новых социальных образований, высвободить публичную активность из затянувшегося на десятилетия паралича. Взгляд Вирно на современность более позитивен, в отличие от зловещего образа паразитической и вампирской «Империи» у Негри-Хардта. Вирно заканчивает свой текст провокационным тезисом: постфордисткая имматериализация труда создает своего рода парадоксальный «коммунизм капитала» (отмирание государственной формы, размывание границы труда и отдыха) как ответ на революционные события в Западной Европе в 60-70-х гг., также как «государство всеобщего благосостояния» (welfarestate) на излете фордистской эпохи создавала своего рода его «социализм» как вынужденную реакцию на вызов революции 1917 г. Естественно, это своего рода потенциальный «коммунизм», поскольку на реальный коммунизм капитал не способен по своей имманентной логике. При всей своей гибкости и тенденции к постоянному революционизированию производительных сил, к конкретному отрицанию тех или иных устаревших производственных отношений, он не способен допустить «абстрактного отрицания» (Гегель) самого себя.
IV. «Антропоцентризм капитала» и субъективность
Для прояснения общего замысла исследований П.Вирно важно реконструировать теоретические возможности, который открывает такой подход. В заключение кратко остановимся на этих перспективах, отталкиваясь от основных тем, которые мы уже выделили: понятия «имматериального» или «виртуозного» труда и новых социальных субъектов.
1. Критическое значение концепции постфордистского труда. Еще в конце 60-х гг. Мишель Фуко в знаменитой книге «Слова и вещи» постулировал для постклассической эпистемы как системы условий возможности мысли, возникающей в 19 в., категориальное разделение труда, жизни и языка, образующих в своем автономном сочленении конфигурацию возможностей современного мышления. Как можно видеть на примере теоретизирования Вирно, этот код ныне проблематизируется: труд скорее подчиняется философскому концепту жизни, а язык включается в труд как его основная сила и потенция. Сам Вирно усматривает в этом еще более фундаментальный сдвиг, заставляющий пересмотреть традицию западной метафизики, начиная с Аристотеля, который в «Никомаховой этике» развел области труда, (политического) действия и интеллекта. Они попадают в область неразличенияв виртуозном праксисе-пойэзисе и образующихся на его основе новых субъективностях.
В более узком плане этот ход мысли полемичен по отношению к некоторыми концепциями «ревизии» Маркса, которые развивались в философской и теоретической мысли Запада начиная с 70-х гг. Одной из базовых областей инновации в теории, исходя из которой и выдвигались критические аргументы, была область философии языка, анализа коммуникации и языковой прагматики. Возникшая в рамках последнего поколения исследователей Франкфуртской школы «теория коммуникативного действия» Ю. Хабермаса предприняла критический пересмотр марксистской философии и социальной теории. По Хабермасу, начиная с основоположников этой интеллектуальной традиции, она систематически упускала из поля своего внимания феномен коммуникации, что в дальнейшем обрекало ее на фундаментальные теоретические и политические ошибки. Измерение коммуникативного действия автономно по отношению к измерению труда, который Хабермас однозначно вписывает в проблематику «инструментального» или «стратегического» действия[50]. Упрощая суть полемики, можно сказать, что для Хабермаса это упущение прагматики языковой коммуникации является основным критическим аргументом, предопределяющем его работу по построению общей социальной теории ассимилирующе-синтезирующего типа, которая уже не ориентируется на базовые представления старой «критической теории» и «ортодоксальной» марксистской философии.
Легко заметить, что позиция Вирно и других итальянских исследователей, в свою очередь, демонстрирует шаткость аргумента Хабермаса с его разделением труда и коммуникации. Естественно, политических философов вроде Вирно и Негри трудно назвать марксистами в классическом или «ортодоксальном» смысле. Однако их проблематизации диаметрально противоположны хабермасовской и в фундаментальном плане остаются верными Марксу. Опираясь на «неканонический» текст Маркса Grundrisse (записные книжки и наброски к «Капиталу»), итальянские теоретики развивают концепцию нового труда, в котором родовой способности человека к языку и коммуникации отводится ключевая роль. И это не «Маркс и сыновья» остаются глухими к праксису коммуникации, свободно движущемуся в многообещающем пространстве «демократической общественности» (Oeffentlichkeit), а напротив, теория коммуникативного действия не способна зафиксировать феноменологию нового постфордистского труда, традиционно ориентируясь лишь на его старую индустриальную модель «покорения природы»[51]. Таким образом, теории Вирно и его единомышленников «снимают» отрицание философских оснований марксистской дискурсивности с помощью лингвистически-коммуникативного аргумента, интегрируя его в новое понятие труда, из которого и выводится имманентно политизированная публичная сфера «всеобщего интеллекта» множеств, расположенная вне логики суверенности государства. Как говорит Вирно, «чтобы понять правила постфордистского труда, необходимо все больше обращаться к Соссюру и Виттгенштейну»[52].
2. Антропологическое значение «виртуозности». Более глубокий план понятия виртуозности выявляет его антропологическое значение. Каждый из нас, как говорящий, является «виртуозом», и этот момент не определяется уровнем компетенции и мастерства. Сам акт говорения, повседневная языковая практика не имеет «конечного продукта», по крайней мере, его появление в ее рамках не является правилом, а его выполнение предполагает присутствие другого[53]. Наконец, речевой акт обладает еще однойхарактеристикой виртуозности – импровизацией. Говорящий в повседневной практике не опирается на некий предустановленный «текст» или «сценарий», а лишь на саму языковую компетенцию как родовую антропологическую способность. Как пишет Вирно, современное производство «становится виртуозным (а значит, политическим) именно постольку, поскольку включает в себя лингвистический опыт как таковой»[54].
Политэкономия современного капитализма «антропологична» (но отнюдь не «гуманна») в том смысле, что человек включается в нее всеми своими потенциями – языком, интеллектом, воображением, изобретательностью, артистичностью, способностью к саморефлексии. Постфордистский капитализм «относится к самой «человеческой природе» как к исходному материалу»[55]. Здесь открывается возможность мыслить возникновение и развитие антропологии (философской, а также эмпирической или «полевой») в ее реальной связи с обществом «имматериального» труда. Сама антропологическая функция (а не только «наука», как полагал Маркс) становится непосредственной производительной силой, постоянно ставящей человека в отношение к самому себе, как виртуозно исполняющим свою «человечность». Это направление анализа следует рассматривать как еще одну, позднемарксистскую, версию дешифровки наук о человеке, наряду с известной генеалогией власти-знания М.Фуко.
Вирно говорит о том, что постфордизм – это не просто политический или социальный, а «онтологический режим» в том смысле, что он напрямую задействует в общественном производстве человеческое бытие, Dasein, или «жизнь»[56]. Возможно, здесь стоило бы говорить об «антропологическом капитализме», или об «антропоцентризме капитала». В этом плане известные образцы радикальной мысли 20 в., двигающейся под знаком критики «гуманизма» (М.Хайдеггер, Л.Альтюссер, М.Фуко, Ж.Делез и др.) можно было бы рассматривать как симптом сопротивления режиму тотального включения антропологического в процесс капиталистического производства.
Подобная перспектива вносит парадоксию в хорошо известные принципы традиционного марксизма гегелевского типа, в метафизическом ключе говорящего об отчуждении «родовой сущности» человека. Понятие отчуждения хорошо работает в условиях классического капитализма, включающего в производство прибавочной стоимости лишь отдельные и «низшие» человеческие способности, и соответственно, подавляющей все другие. В условиях постфордистского капитализма приходится говорить о том, что в пределе вся тотальность антропологического включена в политэкономические процессы. Соответственно, речь не идет об отчуждении в исходном марксовом смысле слова. Постфордистсткий режим не стремится «калечить» работника, а, напротив, требует развития и раскрепощения всех человеческих способностей[57]. Отчуждается (в сугубо экономическом смысле слова) лишь прибавочная стоимость, произведенная самой «родовой сущностью» человека, но не она сама.
С этой антропологической доминантой позднего капитализма, просто побуждающей к полному раскрепощению человеческих способностей, итальянский мыслитель и связывает новые возможности освобождения, говоря о «коммунизме капитала». Капитализм уже defactoсоздает коммунизм, и, видимо, следует лишь учредить его dejure. Этот провокационный ход, тем не менее, оставляет немало скрытых противоречий. С одной стороны, реальный поздний капитализм оказывается неожиданно близким к утопическим репрезентациям коммунизма, сформировавшимся в течение веков развития социалистической мысли. Тем самым Вирно и его единомышленники претендуют на максимальную трезвость по отношению к трансцендентальным или крипторелигиозным иллюзиям «будущего справедливого общества», пытаясь обнаружить возможности лучшего общества здесь и сейчас. С другой, этот тезис, отбросив спекулятивные рассуждения об отчуждения «родовой сущности», оставляет между царством угнетения и царством справедливости лишь небольшой барьер, препятствие – банальное экономическое отчуждение, структуру эксплуатации, т.е. присвоения прибавочной стоимости чужого труда. Казалось бы, стоит прорвать эту прозрачную, не имеющую собственных качеств пелену, и мощные волны настоящего, невиданные потенции множеств вольются в тихую гавань будущего счастья и справедливости для всех; «коммунизм капитала» из релятивной грамматической конструкции станет коммунизмом в неком собственном, субстанциональном смысле слова.
Но тут начинаются теоретические и политические проблемы. Мы не можем говорить об простом учреждении «коммунизма как коммунизма» dejure, поскольку проблематичным оказывается само это dejure, понятое в буквальном смысле юридического и политического установления. Ведь этот элемент, как мы уже видели, зависит от юридическо-политических форм традиционной логики государственной суверенности как наследия идеологических и политических битв 17 века новоевропейской истории. Чтобы уничтожить банальную структуру эксплуатации, непригодна стратегия общественной трансформации через учреждение новой суверенности (скажем, «пролетарского государства»), поскольку она не соответствуют множествам как субъективной форме имматериального труда – «коммунистической» потенции капитала. Новая учреждающая власть множеств не может выразиться в старых формах учрежденной власти – и антидемократического «Левиафана» реального социализма, и лицемерного «Бегемота» буржуазной парламентской демократии[58].
С.Жижек остроумно сравнивает это драматичное «маленькое препятствие» и порождаемые им противоречия с лакановским «objet petite a»[59]. На первый взгляд, это малозначительный элемент в структурном устройстве субъекта. Он, тем не менее, абсолютно необходим. Как некая минимальная нехватка это аналог «минимальной» экономической эксплуатации, т.е. механизма присвоения стоимости. Он является «причиной» самого желания, которое можно сравнить с новой «потенциальностью» и «мощью» множеств в теориях Вирно и Негри. Поэтому, задает вопрос Жижек, не может ли оказаться так, что могущество и потенциальность множеств – лишь структурное следствие «банальной» эксплуатации, которую итальянские мыслители оставляют на периферии своего анализа? И без этого «objet petite a» не работала бы прекрасная социальная машина постфордизма?
Этот спор возвращает нас почти на 30 лет назад -к спору Ж.Делеза «Анти-Эдипа» с лакановским психонализом, спору философского имманентизма с критическим и реляционным мышлением. Утверждаемая первым автономная продуктивность, имманентность и полнота желания как социального и политического производства выступает против аналитики желания как нехватки и скрытой реляционной зависимости от других, лингвистических и экстралингвистических, инстанций субъективности. Видимо, при всей несводимости равновеликих философских перспектив, в пользу Вирно и Негри, – или, во всяком случае, в пользу новизны и ценности их самостоятельной теоретической работы, – говорят некоторые важные смещения и перераспределения, которые они производят. Так, Делез презирал философскую идею коммуникации, отказываясь связывать ее даже с минимальной продуктивностью: еще никогда коммуникация не производила ни одного концепта, это скорее понятие буржуазной парламентской политики, а не производства. Напротив, коммуникация рассматривается теоретиками виртуозного труда как производительная сила, лингвистический праксис в реальном, «объективном» производстве, предполагающем множественную и разделяемую субъективность. «Коммуникативный имманентизм» Вирно и Негри противопоставляется лакановской, идущей от гегельянских интерпретаций Александра Кожева негативности языка, порождающей нехватки и расщепления в изолированном субъекте, перегораживающей его, и не позволяющей ему утвердиться в собственной имманентности[60]. В политическом плане, перспектива поиска и учреждения форм, которые могли бы артикулировать новую историческую потенциальность, несомненно, гораздо более интересна, чем утверждение циничной аисторической фабулы неких «вечных» структурных ограничений.
3. Потенциальная субъективность. Фигура потенциального, как мы могли убедиться, является одной из ведущих линий, скрепляющих разнородное поле анализов Вирно. Это и политическая потенциальность множеств, неактуализируемая в современных формах государства; понятие рабочей силы как потенциальности, определяющей дискурс о феномене жизни и «биополитике»; современный труд как оперирование в пространстве быстро варьирующихся альтернатив; интеллектуальность масс как чистая способность к мысли и коммуникации. Множество «напрямую связано с измерением возможного: каждое положение вещей непредсказуемо [сontingent], и ничто не предопределено некой «судьбой», если понимать под этим тот факт, что, скажем, никто больше не уверен в том, что у него всю жизнь будет одна и та же работа»[61]. Иллюстрацией политической потенциальности множеств как формы субъективности может служить публичное поведение «Черных пантер», сетевой леворадикальной группировки в США. Пользуясь законом о праве на ношение оружия, активисты «Пантер» ходили в полном военном снаряжении, но, как правило, не предпринимали никаких действий, являя собой чистую, или потенциальную угрозу[62].
Наиболее сильным возражением критике «коммунистической» потенциальности постфордизма является переосмысление самого понятия потенциальности. Здесь Вирно выходит за пределы тех допущений, на которых строится аргументация Жижека и подобных ему оппонентов. Эта аргументация предполагает вульгарное прочтение, рассматривая потенциальность как форму, онтологически подчиненную актуальному – его оператором в данном случае выступает «objet petite a». У Вирно парадоксальность новых потенциальностей оказывается их имманентным элементом. Итальянский философ анализирует категорию потенциальности (dynamia) у истоков западной мысли – в метафизике Аристотеля, который, как он считает, придает большое значение отстаиванию автономности потенциального[63]. Потенциальность не следует понимать как «потенциальный акт», а актуальность как «актуализированный потенциал», т.е. как функциональные части процесса простого перевода некоторого содержания из состояния возможного в состояние действительного. Их отношения несимметричны и не являются прозрачной репрезентацией одного в другом. Потенциальность не «исчерпывается» в актуализации; напротив, их отношения нужно мыслить как негативные и несоизмеримые. Потенциальность не есть что-то «неактуальное», а скорее «неактуализируемое»: «потенциал не есть предвосхищающее подобие акта, но его гетерогенный коррелят, непропорциональная ему тень»[64]. Акт не «реализует» потенциал, но оспаривает его, или даже «уничтожает», это своего рода отрицание потенциальности в момент совпадения с ней. Так, конкретный лингвистический акт (высказывание) несоизмерим с потенциальностью языковой способности человека, а конкретный трудовой акт – способности к труду, т.е. рабочей силе как общему имени всех антропологических потенциальностей.
Подобная критическая трактовка потенциальности должная предотвратить вульгарное понимание концепций новых социальных субъектов. Упрощенный подход вписывает их в актуальное измерение как действительный «факт» политической жизни. Путь развития марксистской дискурсивности в 20 в., – уже вскоре после появления знаменитой книги «История и классовое сознание» Г. Лукача, пытавшегося философски учредить пролетариат как актуальный субъект истории,- продемонстрировал проблематичность такого видения, от Франкфуртской школы до школы Л.Альтюссера утверждая сверхрефлексивный «марксизм без пролетариата» и «процесс без субъекта». Эта перспектива подкреплялась критикой самой категориальной формы субъекта, которая разворачивалась не только в марксизме: автономия и данность субъекта самому себе подверглись в философии 20 в. самым радикальным атакам. Однако это не отменяет необходимость изобретать новые способы осмысления непрекращающегося становления политических и онтологических позиций, потенцировать субъективность как неактуализируемый процесс.
Множества как форма субъективности, по меньшей мере, амбивалентны в отношении актуального. С одной стороны, с ними соотносится определенный и исторически фиксируемый слой социальных и политических феноменов, который мы уже подробно рассматривали, с другой – нельзя говорить о них как о политических субъектах, которых прямо порождают, актуализируют эти наблюдаемые условия. Если навязывать этому понятию режим актуальности, то легко представить множества в виде карикатурной репрезентативной модели, предполагающей такой политический субъект как «авангард» истории и «партию множеств» как «наиболее сознательных работников имматериального труда». При этом появляется опасность идеалистически интерпретировать и фетишизировать «имматериальность» новых практик, а также и субъективность как некую самоценную «сингулярность». Антикапитализм начала прошлого века в своих консервативных и романтических версиях был спиритуалистическим отрицанием современного ему фордистского капитализма. В ориентированном на актуальность «новом левом» дискурсе имматериальный труд, сингулярности, множества иногда риторически приобретают характер столь же мистифицируемых объектов. Задача критики состоит в том, чтобы так переопределить их конфигурацию, чтобы ее нельзя было включить в любую спиритуалистическую легитимацию постфордистского капитализма. Следует говорить о политическом движении множеств в смысле аристотелевского kinesis’a как акта, чья незавершенность обсусловлена гетерогенностью потенциального.[65] Это не отменяет необходимости обращения к этой гетерогенности – для того, чтобы изменить актуально существующий социальный порядок.