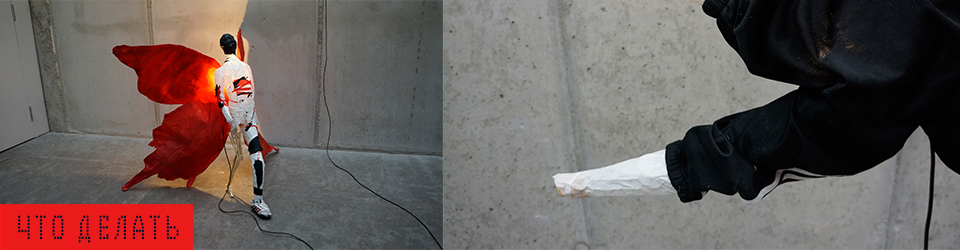…Товарищ Сталин – гениальный ученый, корифей марксистско-ленинской науки, обогативший науку гениальными открытиями. Он сделал громадный вклад в марксизм-ленинизм, разработал важнейшие теоретические вопросы строительства социализма в нашей стране и постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Из «Предложений об увековечении памяти Иосифа Виссарионовича Сталина», 1953
Вчера мы хоронили двух марксистов,
Мы их не накрывали кумачом,
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем.
И перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал кисет и те слова,
Просил он вас во всем тут разобраться
И тихо вскрикнул: «Сталин – голова!»
Из советской песни
В самой своей сущности разум есть противоречие, противостояние, отрицание до тех пор, пока свобода не будет реализована. Если противоречивая, противоборствующая, отрицательная сила разума терпит поражение, реальность совершает свое движение, повинуясь собственному позитивному закону, и, не встречая противодействия со стороны духа, раскрывает свою репрессивную силу.
Г. Маркузе («Разум и революция»)
1. Логика трансгрессии в теории
Небольшая красная книжица Бориса Гройса[1], конечно, не «динамит», но, тем не менее, крайне взрывоопасная вещь, которая демонстративно стремится разрушить сложившиеся представления об опыте «реального социализма» – через серию остроумных парадоксов. Эта интеллектуальная трансгрессия вызывает у читателя удовольствие и даже некоторую юмористическую эйфорию, подобную той, что возникает от некоторых отечественных концептуалистских текстов. Запрет, как мы знаем из популярной философемы Ж. Батая, логически связан с нарушением, трансгрессией, «праздником и жертвоприношением». Именно эффект философского праздника и карнавала объясняет своеобразную эйфорию, возникающую от чтения таких (надо сказать, весьма редких) текстов. Однако после прочтения с драйвом написанной книги Гройса, как после буддийского «хлопка одной ладонью», у читателя, не склонного к созерцанию пустоты, возникает немало вопросов.
Действительно, в «Коммунистическом постскриптуме» содержится незаурядный философский и политический вызов. «Фига в кармане» заявляет о себе уже в названии и в книжном дизайне, которые намекают на «Манифест» К. Маркса и Ф. Энгельса, полтора столетия назад заложивший начало коммунистической политики и мысли. При известной настроенности оно вызывает в памяти и название другой памятной в современной философии работы – небольшого текста Ж. Делеза «Постскриптум к обществам контроля», в котором речь идет о завершении эпохи западных дисциплинарных обществ, проанализированных М. Фуко.
Эта энергия начала, открытия, manifestum, и логика закрытия, завершения – разнонаправленные силы, которые одинаково чувствуются в тексте, придавая ему особое напряжение. Жест вызова, который в нем производится, можно уподобить громко хлопнувшей двери, которую закрывает раздосадованный человек. Или, быть может, не человек, а призрак, призрачные силы прошлого, советской «Атлантиды», ушедший ниже ватерлинии истории. Ведь автор – не больше не меньше! – стремится представить сталинский диамат высшим напряжением человеческой мысли в ее парадоксальном охвате всех возможных утверждений одновременно, а СССР – реальным коммунизмом, каким он только и может быть «на практике». Однако эта мысль проводится весьма искусно и сдержанно, вне стилистики поверхностной провокации.
В 80-90 гг. прошлого века Б. Гройс развивал свой знаменитый тезис о логике преемственности между революционным авангардом и сталинским социалистическим реализмом, а далее обнаруживал его особую медийность, роднящую его с западными течениями вроде поп-арта. Анализ разворачивался в сфере эстетики и теории искусства. Новый парадокс претендует на выстраивание преемственности в сфере собственно философской мысли. Т. е. теперь тов. Сталин как концептуальный персонаж – не только выразитель «нового романтизма», художник, преобразующий мир по своему проекту, но и великий мыслитель-практик. Последовательность этапов этой «переоценки ценностей» вполне логична и подобна серии «эпохе» в феноменологической технике анализа. Эстетическое измерение со своим дереализующим, потенцирующим эффектом позволяет взять в скобки исторический опыт, связанный с именем «Сталин». Что, в свою очередь, создает условия для того, чтобы сосредоточиться на интерпретации текстов вроде «Краткого курса» или известных трудов по языкознанию, вписав их в контекст истории философии, причем от самых ее греческих истоков.
Подход автора, на наш взгляд, состоит в том, чтобы интерпретировать сталинизм и советский проект в целом, как они есть, на поверхности его официальной репрезентации, без всяких примесей позднейших разоблачающих и критических дискурсов. Поэтому методологически вряд ли можно сказать, что Гройс, скажем, создает апологию сталинизма, или делает некие спекулятивные ставки на грани фола, – скорее, речь идет об исследовательской процедуре «подвешивания», нейтрализации различных идеологизированных описаний. С другой стороны, какой бы нейтральной (и трансгрессивной в своей нейтральности) не была методология, выводы из этого исследования, разумеется, могут быть идеологически присвоены, причем в самом «реакционном» ключе. Мы коснемся этой проблемы в конце нашей статьи.
2. СССР как парадокс
Гройс начинает с простой, в общем-то, дихотомии «дискурса» (в широком смысле «языка») и «денег» как двух медиа, через которые организуются общества[2]. Говоря еще проще: экономика оперирует цифрами, политика – словами, высказываниями. При капитализме главенствуют невербальные, анонимные – марксисты добавили бы: «стихийные» – рыночные процессы, при этом «язык» как политическое, критическое высказывание не обладает возможностью реально на них влиять. Экономическое событие или факт (скажем, успех или провал какого-то проекта) невозможно оспорить или обосновать с помощью дискурсивных средств, аргументации. Гройс высказывает довольно распространенное «циническое» мнение о положении критики в современном капитализме: «При капитализме язык функционирует лишь как товар, что с самого начала делает его немым. Дискурс критики или протеста считается успешным, если он хорошо продается, – и неудачным, если он продается плохо» (с. 9). Эта печальная «мудрость» наших термидорианских дней становится основанием для решительного заключения о том, что критический дискурс может быть эффективным лишь в том обществе, в котором исчезает медиальная гетерогенность общества и языка. Имя этого общества – и есть коммунизм, в котором политика, медиумом которой является язык, подчиняет себе экономику. Тогда каждый «товар» становится языковым высказыванием, которое можно критиковать в гомогенном языковом пространстве. Поэтому, скажем, вопрос «о колбасе» и стал эмблемой этого общества в период его распада. Таким образом, обрисовывается первый парадокс: только в коммунистическом обществе критика и может быть эффективной.
Определение «реального коммунизма» в сталинском варианте как общества, в котором экономика – да и вся социальная жизнь – подчинена политике, в общем-то, новым не назовешь. Это определение встречается во всех концепциях «тоталитаризма», начиная с Ханны Арендт. Она монотонно пересказывается во всех либеральных учебниках и словарях по истории и политологии. Гройс производит переоценку этого тезиса, придавая ему более общее значение. Если для теорий «тоталитаризма» это подчинение политике имеет только негативный и эмпирический аспект, и довольно односложно разоблачается как партикулярное господство единственной партии или номенклатуры, как царство иррационального террора и пр., то Гройс как своего рода альтюссеровский «теоретический антигуманист» усматривает в этом порядке универсальный философско-исторический смысл. Если западная философия ХХ века лишь провозгласила в тех или иных формах «поворот к языку», то советское общество реализовало его на практике. Экономика в условиях капитализма является источником всяческого партикуляризма и «фурий частного интереса», в условиях же ее социалистического огосударствления и отмены частной собственности торжествует универсализм. Советское государство и было «государством философов», в котором все население, потеряв материальную основу для игры частных интересов, предавалось заботе о всеобщем, располагаясь исключительно в лингвистическом измерении.
Поэтому Гройс переходит к анализу древнейшей философской модели подобного общества – идеальной республике, описанной в «Государстве» Платона. Вопрос здесь заключается в том, как язык в широком смысле («логос», «дискурс») может обладать реальной властью, управлять миром? Ответ, по Гройсу, состоит в «логическом принуждении», в эффекте ясности, который демонстрирует Сократ как персонаж платоновских диалогов. Через цепочку ясных вопросов и утверждений Сократ высвечивает темноту и противоречивость мнений своих оппонентов. Логическое принуждение направленно против поверхностной убедительности речей софистов, которых Платон презрительно называет «торговцами знанием», т. е. своего рода «торговцами на рынке мнений» (с. 19).
Интервенция Гройса в имеющую почтенную историю и актуальную сегодня проблематику отношений философа и софиста состоит в том, что ясная речь еще не есть речь когерентная, непротиворечивая. Напротив, именно обнаруживая парадокс в софистических речах, которые на первый взгляд кажутся логичными и непротиворечивыми, Сократ достигает наивысшей ясности. Однако Сократ – не витгенштейновский «терапевт», который демонстрирует путаницу в метафизических допущениях ради излечения языка. Напротив, он укореняется в парадоксе, утверждая его неизбежность и значимость. Цель Сократа состоит не в противостоянии частному «мнению» с помощью некоего истинного дискурса о всеобщем. Его жест – это раскрытие парадоксальности любого мнения. Так философ сопротивляется демократическому рынку мнений, в рамках которого возможны любые, подчас самые глупые высказывания. Он демонстрирует скрытую противоречивость мнений, не претендуя на истинность собственной позиции. Эта позиция и позволяет ему претендовать на власть, ведь именно парадокс обладает максимальной ясностью и поэтому принудительностью, завораживая собеседника. Софист же скрывает парадоксальность собственной речи, и в этом пространстве сокрытия укореняются частные желания и интересы. Это пространство он и продает как «товар», как некую дискурсивную площадку для преследования партикулярных интересов под видом логической всеобщности[3].
В школьных историко-философских представлениях именно фигуру софиста обычно связывают с производством парадоксов и апорий. Ход Гройса состоит в том, чтобы как раз философа представить своего рода фундаментальным парадоксалистом, софиста же изобразить неким плохим, корыстным философом, скрывающим парадокс. Проблематика парадокса, которую Гройс проецирует в область политики, связана, во-первых, с экзистенциалисткой и религиозной линией С. Кьеркегора, который обнаруживал «парадоксы веры» и подчеркивал их незаменимую роль во всяком подлинном и новом философском мышлении. Во-вторых, эта проблематика не может не учитывать логико-математическую линию, в которой вопрос ставится с помощью аппарата теории множеств (Б. Рассел, К. Гедель и др., сегодня, в определенной мере, – А. Бадью). Учитывая современное состояние проблемы, когда ставится под сомнение возможность разрешить парадокс через разведение предметного языка повседневной жизни и формального мета-языка описания, конвергенция двух указанных линий и размышление об их политических импликациях, безусловно, имеет смысл. Если тотальность всех дискурсов невозможно представить в форме логически непротиворечивого мета-высказывания, то именно парадокс, говорит Гройс, становится ее «иконой», т. е., как в религиозной традиции иконописи, – образом без прообраза[4].
Тогда вся философия оказывается историей изобретения все новых сияющих парадоксов и их «потускнения»: cogito Декарта («только тот знает, что он существует, кто сомневается во всем, включая собственное существование»), epoche Гуссерля, а также многообразные и радикальные парадоксы, изобретенные современными французскими философами-постструктуралистами. Однако их отличие в понимании парадокса Гройс, явно не без влияния известной критики Ю. Хабермаса, сводит к тому, что логическая структура парадокса, с ее властной ясностью, соотносится постструктуралистами не с разумом (в узком понимании инструментальных и логически когерентных операций), а с его «другим» – желанием, трансгрессией, письмом как игрой материальных означающих. Политическим следствием этого разделения становится представление современности как господства рациональности, а парадоксального дискурса – как его единственно возможного оппонента. Тогда как все обстоит наоборот, считает Гройс, возвращаясь к своему тезису о подчиненной роли языка при капитализме, – именно нерепрезентируемая, стихийная рыночная реальность капитализма основана на принципе некоего внеразумного частного парадокса. Он становится массовой практикой циничной смены противоречащих друг другу позиций и оплачиваемых «компромиссов», замаскированных софистической видимостью аргументации. И единственной по настоящему оппозиционной этому ходу вещей стратегией – вновь связывающей рациональность и парадокс, воскрешающей мощь универсального языка, – и была советская власть как философская практика, которая «объявила себя господством диалектического, парадоксального разума – в ответ на описанный Марксом парадоксальный характер капитала и товара» (с. 40).
Эпистемологические размышления Гройса, безусловно, интересные сами по себе, готовят обоснование для неожиданного скачка от канонизированных профессиональных философов Запада к диалектическому материализму сталинской выделки, который вдруг предстает как высшее теоретико-практическое воплощение головокружительной мысли, сократически занятой постоянным обнаружением сияющего парадокса. Эта схему интерпретации довольно легко представить, не особенно вдаваясь в детали. Так, пресловутый закон «единства и борьбы противоположностей» оказывается ближе не к Гегелю, у которого противоречие-парадокс снимается, остается в прошлом, легитимируя последующее рассуждение, а скорее к критике гегелевской системы Кьеркегором, который утверждает постоянную актуальность противоречия единичного и всеобщего в экзистенциальной практике веры, устремленной к фигуре Христа. Речь идет о некой тотальной логике, которая отличается и от формальной (она исключает противоречия), и от традиционной диалектической (она оставляет их в прошлом). В формуле «бытие определяет сознание», утверждает Гройс, под «бытием» понимается противоречивость сущего, которая вовлекает сознание в чехарду противоречащих друг другу мыслей, стремительно сменяющих друг друга. Все возможные «уклонизмы» (троцкизм, например) осуждались и репрессировалось не потому, что они представляли реальную угрозу режиму, а потому, что они, выставляя ту или иную частную, «одностороннюю» позицию, не соответствовали самой философской логике парадоксального удержания противоречивой тотальности общества в языке абсурда и парадокса. (В этом смысле роман «1984» Оруэлла с его «война – это мир» точно ухватывает эту тотальную логику, но является лишь ее бледным отражением.) И «генеральная линия» Сталина – это лишь простая сумма противоречащих друг другу предложений, исходящих от различных «уклонистских» политических лагерей в рамках компартии. Поэтому сталинская «догматика» – лишь эффект непонимания ее критиков, в том числе западных интеллектуалов, которые разоблачали ее с помощью формальной, – т.е. «буржуазной», «недиалектической», – логики, для которой противоречие является основным критерием принятия/отвержения высказываний. Для диамата же противоречие – это и есть «язык жизни», язык тотальности бытия. Он оказывается самой открытой практикой мысли, совмещая противоположные тезисы, и отвергая все частные, закрытые позиции[5].
Помимо «философской» главы канонического «краткого курса ВКП(б)», Гройс в русле своей первоначальной гипотезы об особой роли языка в СССР исследует работы Сталина по языкознанию, которые и являются, похоже, главным симптомом советского «лингвистического поворота на практике». В работе обсуждается вопрос, является ли язык лишь частью надстройки, или является имманентным всему социальному телу. Сталин заявляет, что язык, является средством общения всего общества и необходимой составляющей всех трудовых процессов: «… язык способен полностью заменить экономику, деньги, капитал, поскольку имеет прямой доступ к всем сферам человеческой жизни и всем видам деятельности» (с. 66).
Конец СССР также произошел в парадоксальной логике диамата, которая совмещает противоречащие друг другу утверждения в своем напряженном охвате тотальности, – как переход от тезиса коммунизма к антитезису капитализма. Этот переход и был окончательной реализацией коммунизма, задающей его временные границы и превращающего его в вечную возможность, которая будет ждать своего очередного воплощения. СССР жестом подлинной суверенности, силы, а не слабости, отменил себя сам, вне исторического контекста (что бы не говорили о проигрыше в холодной войне, внутреннем разложении номенклатуры и пр.). Философски это соответствует метанойе, или внезапной «перемене ума», а также диалектическому управлению историческим процессом – в заботе о том, чтобы революционное пламя не угасало в скуке и застое. Здесь уже отчетливо слышится эйфорический «философский смех» в духе Фуко, который адресован всем злорадным и мелкотравчатым объяснениями «краха СССР» из лагеря его бывших врагов. Он усиливается, когда Гройс начинает размышлять о том, что уже в сталинской конституции была заложена диалектическая программа – в виде статьи о праве на самоопределение, которой воспользовалось руководство многих республик в 1991 году. Постсоветская приватизация также была осуществлена коммунистическими методами – директивным распределением собственности, что указывает на «продолжение эксперимента», одновременно критикуя представления о «естественности» капитализма.
Все эти линии аргументации определяет коммунизм не как конечную стадию телеологического процесса истории, а как парадоксальное событие, вспышку диалектического пламени, исключение, возникшее в силу уникальных обстоятельств и завершившееся по собственной воле. Выстроенная таким образом «трансцендентальная» модель живого советского опыта господства языка над экономическими стихиями и скрепляющей его философии неугасимого противоречия и парадокса позволяет автору «Постскриптума» бросить критический взгляд на современную «буржуазную» философию и капиталистическую практику.
Отказ современной философии от проекта «государства философов», ее критика любых мельчайших властных интенций как «антидемократических» и тоталитарных означают лишь установление некой перверсивной, дисперсной философской власти[6]. В СССР же философия была демократически распределена между всеми гражданами как носителями языка и логики, которые находились в контексте парадоксального целого диамата, включавшего в себя и анти-советскую позицию (позднее приватизированную диссидентами). Жизнь советских людей, в модели Гройса, была полна борьбы, противоречий, абсурда и мученичества именно вследствие того, что это социальное тело было воплощением парадоксального философского логоса, а диамат внес в него разрыв, подобный тому, что произошел с появлением универсалистского Нового Завета[7].
Западные «буржуазные» философы и даже левые интеллектуалы, разумеется, не могли и вообразить, насколько фундаментальная и изначальная онтологическая стихия властно правит в границах СССР. Поэтому они критиковали Советский Союз как царство простой рационалистической утопии, обернувшейся бюрократическо-номенклатурным господством, совершенно лишенным очарования парадокса. Основной нотой этой критики остается «гуманизм», подчеркивающий момент человеческих желаний и потребностей, подавляемых бездушной машиной государства. Этот мотив повторяет не реальный, а литературный, сконструированный опыт утопий и антиутопий (Мор, Кампанелла, Фурье, затем – Замятин и Оруэлл), а позднее развивается в массовой пропагандистской продукции времен холодной войны. Поэтому советский проект не признавался действительным воплощением коммунистической мысли. Этот опыт внешнего наблюдения с его аберрациями, по Гройсу, запечатлен в ряде позднейших философских текстов. Например, в «Призраках Маркса» Ж. Деррида, где фигура «призрака коммунизма» подается через шекспировскую аллюзию, является в рыцарских доспехах, скрывающих его лицо, откладывающих его присутствие.
Следующий, пожалуй, самый рискованный, поворот рассуждения Гройса прямо направлен против западных – или, в советской терминологии, «буржуазных» – левых, не опознавших трансцендентальный смысл события СССР. Утверждается, что именно критика Советского Союза стала генеалогической основой для критики собственных обществ, где проживали уважаемые западные марксисты и неомарксисты. Анализ логоцентризма и господства холодной рациональности, ставший общим местом в дискурсе западных левых, был переносом антитоталитарных схем, сформировавшихся вокруг сталинского «возвышенного объекта», на родные капиталистические пенаты. Критика советского коммунизма превратилась в самокритику капиталистического Запада[8]. Левая критика западных капиталистических обществ функционирует как дискурс, давно ставший товаром на медийном и интеллектуальном рынке, который окончательно гасит его потенциал реального воздействия, революционизирования общества. Распространенные сейчас «постмарксистские» анализы, отбрасывающие экономическую проблематику и сосредоточенные на тематике поддержания отрытости, гетерогенности, свободной коммуникации в публичной сфере, остаются всего лишь бессильными критиками капитализма (в противоположность эффективной «критике коммунизма»). Они стали заложниками системы «ограниченного финансирования» культурных и политических проектов, которая довольно грубо и бесцеремонно прерывает «бесконечную» игру умножающихся различий и идентичностей, когда кончаются деньги. По настоящему открытым и гетерогенным, по Гройсу, был коммунистический, революционный субъект, который «присваивает открытое, расколотое поле языка, в результате сам становясь внутренне расколотым, парадоксальным и гетерогенным» (с. 96).
3. О значении исследований товарища Б. Гройса для современной идеологической борьбы
Внимательно проследив эту впечатляющую работу трансгрессии и парадокса, можно задаться вопросом: кому адресован и кого может спровоцировать такой интерпретационный перформанс? Что важного содержится в нем для «современной идеологической борьбы»? Какие тенденции – реакционные или прогрессивные – он поддерживает?
Во-первых, «Постскриптум» явно задевает традиционную либеральную среду, – как в России, так и «на Западе», – для которой имя Сталина навсегда связано с тоталитаризмом, ГУЛагом и «черной книгой коммунизма». В тексте Гройса нет почти ни слова об этих исторических и социальных реалиях, которые обычно в изобилии присутствуют в работах соответствующей направленности и эмоциональной тональности. Это умолчание симптоматично – текст Гройса находится как бы в зоне разрыва с этим полем, и любые слова «о ГУЛаге» в логике его аргументации выглядели бы абсурдно, как если бы, скажем, значение пьес Мольера оспаривалось на основании того известного эмпирического факта, что великий французский комедиограф отравил свою тетку. Стратегия состоит здесь, повторим, в сознательной редукции: логическое (или паралогическое) отделяется от исторического контекста.
Впрочем, фланг борьбы с концептами, с помощью которых традиционно описывается сталинский СССР, уже занят Славоем Жижеком. В 2002 году он опубликовал книгу «Кто сказал тоталитаризм?», в которой попытался вскрыть идеологическую и политическую логику этого понятия, введенного в научный оборот Ханной Арендт и подхваченного пропагандистскими медиа времен «холодной войны»[9]. В целом, Жижек сводит логику этого понятия к Denkverbot, т. е. к запрету на осмысление данной проблематики в любых иных категориях. Этот запрет блокирует любую попытку помыслить радикальную альтернативу существующему капиталистическому порядку – через своего рода шантаж. Как замечает Жижек, «…они знают, что существует коррупция, эксплуатация, и так далее, но любая попытка изменить положение дел осуждается как этически опасная и неприемлемая, реанимирующая призрак “тоталитаризма”»[10]. Таким образом, «очевидный» выбор между «меньшим» и «большим» злом, который, по сути, легитимирует современный statusquo, подвергается решительному оспариванию, трансгрессии, – по крайней мере, в теории[11]. Возможно, это не самая удачная книга словенского философа, однако появление книги Гройса на этом фоне заставляет говорить о возникновении тенденции.
Во-вторых, точно также эта парадоксальная интерпретация бьет также по западным левым, которые дистанцировались от сталинского эксперимента, и с иронией описываются Гройсом как «буржуазные». Для меня и некоторых моих друзей солидаризация с традицией «другого марксизма» на фоне враждебности либеральной академической среды и совсем не парадоксального догматизма постсоветских левых была важным моментом политического и интеллектуального движения в наших локальных условиях[12]. Разумеется, полемика с концепцией «Постскриптума» не является задачей этого обзорного текста. Однако я позволю себе несколько вопросов и наблюдений.
1.После распада СССР все левые становятся «буржуазными», поскольку действуют в условиях капиталистических государств. Но наступившая историческая пауза в коммунистическом движении дает возможность заново продумать возможности освобождения. Пренебрежительные инвективы вадрес современных левых – из советской позиции, когда-то подкрепленной мощью социалистического государства, а теперь скорее риторической и фиктивной, – на руку лишь «реакционерам всех мастей», радостное оживление в лагере которых продолжается. Концепция Гройса почти в стиле Кьеркегора задает жесткую альтернативу «или – или»: или бесконечная и бессильная критика капитализма, который ее постоянно инкорпорирует и инструментализирует для собственных целей[13], или коммунизм в духе обрисованной модели советского опыта – некое ограниченное во времени и пространстве событие, или даже «проект», который всегда может быть «закрыт», не внеся радикальных улучшений в глобальный мировой порядок. Но насколько действенной может быть сама постановка вопроса таким образом, и не воспроизводит ли она на другом уровне навязываемый господствующей идеологией выбор между большим и меньшим «злом», – не говоря о том, что, вопреки декларируемым установкам, отрицает возможность коммунизма как универсальногои глобального события? Совместима ли возможность этого события с самой формой государства («государства философов» в «одной отдельно взятой стране»), которую Гройс принципиально не отличает от политики как таковой?[14] Закрытие советского госпроекта «реального коммунизма», – если доверять аргументации рассматриваемой книги, – не оставляет никаких политических ориентиров. Нам лишь сообщается, что парадоксальная вспышка коммунизма с необходимостью должна повториться в благоприятных условиях. Подобная изоляция советского проекта в фигуре пассивной и слепой судьбы, по сути,открывает путь к его сакрализации, логика которой уже намечена в книге Гройса. Недаром в Ветхом Завете слово παράδοξον обозначает «чудесное», «неожиданное», а в Новом Завете увиденные «парадоксы» приводят свидетелей в экстаз, побуждают их к «прославлению Господа» и наполняют их страхом[15].
2. Любопытна аналогия между парадоксальной моделью CCCР как «реального коммунизма», медиумом которого является язык, и развиваемых некоторыми современными левыми теоретиками концепциями «постфордизма» (прежде всего, П.Вирно и А.Негри). Основной тезис этих концепций состоит в том, что в условиях позднего «постфордистского» капитализма гегемониальной формой практики становится «имматериальный труд», который связан прежде всего с коммуникацией, с языком, лингвистическим перформативом[16]. Теоретики этого лагеря также говорят о том, что в рамках современного западного капитализма тоже произошел «лингвистический поворот» не только в философии, но и на уровне практики. Каждый работник в этих условиях defacto становится мыслителем, «философом», а ведущей производительной силой– «всеобщий интеллект» как коллективная языковая и логическая машина. Согласно остроумной и парадоксальной терминологии П. Вирно, это состояние можно назвать «коммунизмом капитала»: в условиях глобального рынка государства ослабевают, а сам характер труда требует все большего раскрытия высших человеческих способностей, прежде всего – к мышлению, речи и инновации. Не может ли концепция Гройса быть вольной или невольной проекцией подобного представления современной ситуации в недавнее историческое прошлое? Речь идет не о включении языка в рыночный обмен (который якобы обессиливает его критический потенциал), а о его становлении частью самого производства. Интересным вопросом представляется проблема критики именно в этом, более точном диспозитиве[17].
3. Несомненно, текст Гройса симптоматичен для нашей исторической констелляции. Очевидны изменения самого «эстетического режима», конфигурации «разделения чувственного» (Ж. Рансьер) в отношении свидетельств и материалов советской истории. Непосредственное шоковое восприятие визуальных, перцептивно-телесных качеств той эпохи, образцом которого может быть, например, фильм А. Германа «Хрусталев, машину!», уступает более абстрактному запросу на выявление ее универсального смысла. На этом пути гройсовская модель, несомненно, имеет шанс подвергнуться идеологической апроприации. На такую возможность указывают некоторые провоцирующие замечания в тексте, – например, что нынешняя централизация власти в России намекает на продолжение коммунистического эксперимента (с. 115). Теория диамата как парадокса, помимо непосредственного юмористического удовольствия, могла бы функционировать и в качестве компенсаторного фантазма, восполняющего смысл в том месте, где он был полностью утрачен, – в силу исторической травмы или действия прежней разоблачающей критики и пропаганды.
Станет ли «Коммунистический постскриптум» тем спиритическим медиумом, через который будут говорить титанические призраки погрузившегося в толщу времени советского архипелага? В любом случае, предложенная в этом тексте перформативная интерпретация советского опыта придает ему почти абсолютный, т. е. отнесенный только к самому себе, смысл. И эта фабула разительно отличается от давно установившихся схем описания советского проекта, которые либо разоблачали его философско-историческую осмысленность, либо выстраивались вокруг традиционной, без парадоксов, диалектики утопии и превратностей ее осуществления.
[1] В Германии текст вышел в 2005 году в рамках большого исследовательского проекта Postcommunist condition, вовлекшего в свою орбиту немало выдающихся теоретиков и художников. На большой конференции в ностальгически обветшавшем культурном центре Das Moskau в июне 2004 года, ставшей кульминацией проекта, выступали «звезды» современной политической философии вроде С. Жижека и Ш. Муфф, а также многие известные интеллектуалы из России и Восточной Европы.
[2] Или «медиумов», как с некоторым спиритическим уклоном переводит текст немецкого издания А. Фоменко. Дихотомия денег/дискурса также была центральной в недавних рассуждениях Гройса о положении современного искусства (см.: Капитал, искусство, справедливость // Художественный журнал. 2005. № 60).
[3] Собственно, здесь софист предстает «идеологом» в смысле марксисткой критики ХХ века.
[4] Своеобразная интерпретация современных вариаций на тему кантовской проблематики возвышенного, переосмысленного как «нерепрезентируемое», «несимволизируемое».
[5] Это мышление тотальности Гройс сравнивает с отношениями доктрины и ересей в христианстве: доктрина есть сумма противоречивых ересей, и предосудительным оказывается лишь отказ от того, чтобы мыслить их все вместе, коснея в одной из них.
[6] Учитывая влияние и популярность философских медиа-звезд в наши дни, подкрепленную денежными механизмами «рынка идей», возникает соблазн не без иронии согласиться с этой оценкой.
[7] Здесь – разумеется, вне всяких навязываемых либеральной критикой параллелей между «тоталитарными режимами» – можно вспомнить рассуждения М. Хайдеггера времен «Введения в метафизику» о том, что национал-социализм был воплощением греческого логоса, а немецкий язык был его истинным медиумом.
[8] Так, оруэлловский образ Большого Брата, возникший как сатира на СССР, в настоящий момент весьма популярен в связи с общей антитеррористической паранойей контроля во всем мире.
[9]См.: Zizek S. Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in (Mis)use of a Notion. London: Verso, 2002. Р. 12.
[10]Ibid., p. 4. Жижек, в свою очередь, ссылается на французского философа Алена Бадью, который во введении к своей известной книге об апостоле Павле с сарказмом пишет: «… только Ленину и Мао удалось вызвать настоящий страх, понуждавший капитализм безостановочно прославлять либеральные ценности всеобщего эквивалента или демократические добродетели свободы торговли» (Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. СПб., 1999. С. 9).
[11] В локальном варианте этот глобальный политический оператор работает в формуле «плохая, несправедливая, коррумпированная стабильность» vs. «беспорядок», «путч», «новый передел собственности» и т.д.
[12] См. мою статью «Другой Маркс, или Наше воображаемое поколение и его политический язык» // Ein anderer Marx oder Unsere imaginäre Generation und ihre politische Sprache // Kultura. 2006. № 10.
[13] Недавним примером медийной инструментализации критики может стать рекламный ролик, который появился на одном из телеканалов. Закадровый голос с пафосом произносит: «Телевидение сделало людей спокойными и счастливыми зомби!» При этом возникает картинка: у экрана сидят одичавшие люди, привязанные к телевизору какими-то проводами;все это подано в развлекательно-карикатурном ключе.
[14] См. в связи с этим важный текст А. Бадью: Тайная катастрофа. Конец государственной истины // S/Λ’2002. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН. М., 2002.
[15]См.: Das Paradox. Eine Herausforderung des abendländischen Denkens / Ed. Geyer P., Hagenbüchle R. Tübingen, 1992.
[16]См.: Virno P. A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life. – NY: Semiotext[e], 2004. См. также нашу статью «Новые социальные субъекты: версия Паоло Вирно» (Прогнозис, №3, 2006).
[17] Интересно в этой связи вспомнить противопоставление повседневного/поэтического языка у русских формалистов. В случае постфордизма, «повседневный» язык уже становится языком производства, т.е. поэзиса. Значит ли это, что критике уготовлено прежнее место «праздного», непродуктивного (поэтического) употребления языка?