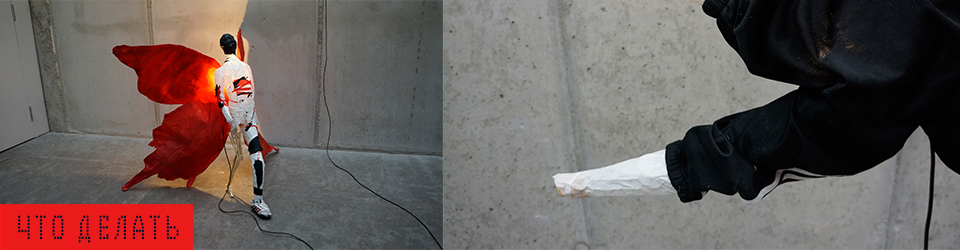Позволю себе начать словами, которые часто приходят мне на ум, когда речь заходит о религии (а речь о ней заходит все чаще):
Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
Сегодня мы можем сказать вслед за Марксом: религия капитализма – это сердце бессердечного мира капитализма. Бессердечного мира, в котором мы вынуждены жить и в котором не можем жить без того, чтобы верить в капитализм.
Вера – это не просто. Она не сводится лишь к иллюзии, или к заблуждению, или даже к идеологии, которая может меняться с достаточной быстротой. Разум не столько прибегает к вере, чтобы оправдать противоречия реальной жизни, сколько черпает из иррациональности веры свою рациональность. Вера для него – все равно, что капитал: ее также можно инвестировать во вполне реальные проекты.
Но кто верит в капитализм, вот вопрос. Не заключается ли вся ирония в том, что сердце этого бессердечного мира бьется слева? Не является ли капитализм некой уже вполне своеобычной религией левых?
Когда мы пытаемся заговорить о капитализме с людьми, которые не разделяют левых убеждений, – они могут ассоциировать себя со средним классом или, как вариант, с «бизнес-классом» (теперешнее самоназывание буржуазии, класса собственников), а также же вовсе отказываться от самоопределения в терминах классовой принадлежности, – мы как будто ударяемся головой о стену непонимания.
Для репрезентативной части общества, интересы которой выражает – или делает вид, что выражает – данная система отправления власти, такого феномена, как капитализм, попросту не существует. Как не существует и капитала, который представляется вещью довольно абстрактной и имеющей место только в голове критиков капитала.
Репрезентативная часть общества не верит в капитализм – она воспринимает его, скорее, как природу вещей, как естественную данность, которая не имеет ни имени, ни смысла. Для большинства современных людей важны более «конкретные» сущности, каковыми являются, например, отдельные бренды.
Перед нами довольно плоская рекламная картина мира. На ней все предметы и явления окружающей действительности, а также связи и отношения этих предметов и явлений представлены в форме конкурирующих между собой товаров и услуг. Сообразно с этой картиной человек выстраивает свои отношения с окружением, определяясь в выборе по поводу тех или иных предложений. Торговые марки действуют здесь так же активно, как боги у Гомера: при их непосредственном участии живет и развивается нормальное человеческое общество.
Можно ли назвать такое мировоззрение религиозным? В каком-то смысле да, и Беньямин прав – культ отправляется здесь непрерывно. Но это «народная» религия, то есть, скорее, система верований, сходная с политеистическими, языческими практиками.
Люди не верят в капитал, точнее, верят не в капитал – они верят в устойчивость определенных сущностей: в то, что фруктовый творожок X полезен для здоровья, в то, что автомобиль Y – покоритель дорог, в то, что лэптоп Z подчеркнет их индивидуальность, а консервы W порадуют их четвероногого питомца.
Эта система верований и непрерывного отправления культа в самом деле, как отмечает Беньямин, отличается от других религий своим имманентным, профанным, будничным характером. И именно поэтому мне видится в ней что-то трогательное и смехотворное, как в любой наивной вере. Она органично сосуществует с более древними повседневными религиозными практиками и не вступает с ними в открытое противоречие.
Так, некоторые звезды шоу-бизнеса, соблюдающие православный пост, рассматривают его как очередную диету. Ближе к окончанию поста потребители приходят в супермаркет, чтобы купить краску для пасхальных яиц – совмещая, таким образом, фетишизм товарный и религиозный. Потребительские будни ничем не отличаются от будней христианина, гадающего на рождество и в рамках обычая соблюдающего ритуалы, не подкрепляя их никакими особенными экзистенциальными переживаниями.
Но есть еще другая религия – религия монотеистическая, или, как сейчас говорят, фундаментализм. Фундаменталистов интересуют первоначало бытия, исток и смыслопорождающий принцип. Причем все должно быть совмещено в одном.
Парадоксальным образом в развитии капиталистического фундаментализма наряду с народной верой, неолиберальной идеологией а также с христианской в свое основе метафизической традицией участвует и критика капитализма слева. Она, можно сказать, активно формирует свой объект.
По аналогии с лакановским Большим Другим я назову этот объект Плохим Другим. И вот какая вокруг него выстраивается символическая система: что бы мы ни делали в мире глобального капитала, мы всегда будем иметь дело с Плохим Другим, который вездесущ и неотменим, как если бы мы были уже в аду. Я говорю о пандемии отчаяния и разочарования в реальных практиках борьбы, об актуализации тем проклятости, падшести, безвыходности капитализма, отсутствия альтернативы.
Вера в капитализм, в отличие от наивных суеверий, имеет экзистенциальный горизонт, по сю сторону которого оказывается и наш собственный опыт. Осознание того, что капитал сегодня представляет собой тотальность, снимающую все противоречия, или же не имеющую внешнего имманентность, приоткрывает такую онтологическую дыру, вблизи которой действительно жутко.
Тотальность – но не та! Разве это не означает, что ни у кого из нас, с нашим почти физическим ощущением несправедливости, ошибочности мира, в котором мы все – чужие, больше нет шансов? Разве это не полное поражение?
Демонизируя таким образом капитал, мы делаем из него отрицательного, и при этом абсолютного субъекта – вроде злого бога. Порой нам следовало бы ловить самих себя на том, что в нашем критическом знании проскальзывают элементы такой негативной веры. Она могла бы быть личным делом каждого интеллектуала. Но с этой верой он «идет в народ», пытаясь доказать тому неправоту его наивных верований (например в чудодейственность товара).
Тем временем капитал не является тотальностью и абсолютным началом, совпадающим с концом истории и мира, а является всего лишь определенной исторической моделью функционирования экономики, подкрепленной соответствующим политическим режимом. И эту модель, и этот режим следует заменить другими. Чему среди прочего препятствует болезненная вера в несокрушимость капитализма.
Капиталистическая религия имеет те же самые социальные корни, что и любая другая религия. «Страх создал богов», сказал Стаций. И теперь эти боги сами держат нас в страхе, – Ленин охарактеризовал его как «страх перед слепой силой капитала», которая «…на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит “внезапное”, “неожиданное”, “случайное” разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть»[2].
«Слепая сила капитала» – наследница «слепой силы судьбы» древних греков: в обоих случаях судьба понимается как независящая от нас, неподсудная и необъяснимая воля богов. Но слепы на самом деле люди! – До тех пор пока, не видя своей судьбы, они думают, что ее видит только другой (Плохой Другой).
Однако у того другого нет глаз, чтобы видеть. И нет той руки, которая распоряжалась бы нами, как тряпочными куклами (невидимую руку рынка придумали из страха перед неопределенностью будущего). Капитал – это не судьба и не воля, а только представление. Он повис над миром как бесформенная денежная масса и загораживает от нас ту открытую туманность, внутри которой мы вольны размечать наши собственные пути. Вот почему всякий раз, когда нас охватывает от страха идущая вера в имманентность или трансцендентность капитала, нам следует вспоминать о его исторической конечности.
[1] Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 414—415.
[2] Ленин В.И. Об отношении рабочей партии к религии // Полн. собр. соч. T. 17. C. 418—420.