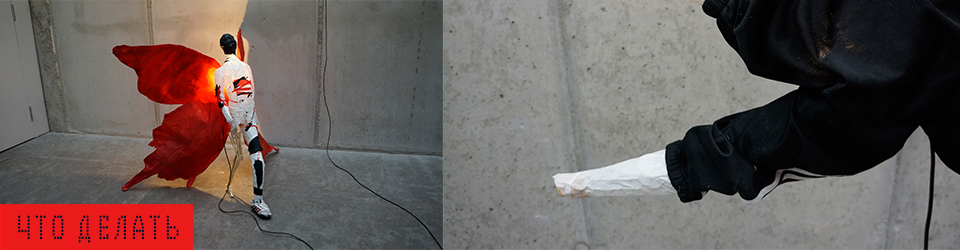Вы, конечно, без труда распознаете в названии этих заметок подшитый к неологизму Даниила Хармса немецкий подстрочник. Это небольшая работа Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни», написанная в начале семидесятых годов прошлого века и входящая в корпус «Несвоевременных размышлений». Он предупреждает в ней об опасности избытка самодовлеющего исторического чувства, имеющего склонность вырождаться в антикварное, некритическое отношение к прошлому, каковое, в свою очередь, ведет подкоп под современность, обескровливает и в конечном итоге подрывает не только эту последнюю, но и будущее, точнее, саму возможность будущего: будущее как возможность. И даже так: будущее-как-возможность, где это последнее следует понимать в перспективе проекта, наброска, бесконечно предвосхищающего и тем самым продлевающего грядущее в настоящем, настаивающего на нем.
В качестве новой столицы Российской империи Санкт-Петербург был именем такого проекта, такого «броска на Запад». Я говорю «был», потому что этот проект оказался свернут, заброшен, и современное положение города как экс-столицы в целом обусловлено этой заброшенностью, этим «экс». Несмотря на ряд символических шагов, нацеленных на возвращение ему былого величия, среди которых и недавнее захоронение в Петропавловском соборе царских останков, факт остается фактом: с переносом столицы обратно в Москву геополитическая роль Санкт-Петербурга как центра империи, со всеми вытекающими отсюда последствиями, осталась в прошлом. Сегодня ему отводится роль гробницы, усыпальницы, некрополя русской — читай дворянской, дореволюционной — культуры.
Как ни парадоксально, но подобная роль была уготована этому городу, переименованному в Ленинград, еще большевиками. Именно они контрреволюционным образом способствовали превращению бывшей столицы в такой некрополь, законсервировав прошлое и придав русской культуре классически завершенный, трупный вид, знакомый нам по школьной программе. Дворцы стали музеями, сады — Парками Культуры и Отдыха, особняки были отданы различным учреждениям и институтам. Новые названия мостов, улиц и площадей хранили память о старых. Никакая революционная риторика не могла скрыть того, что под вывеской «Ленинград» незримо проступают мифологические черты «блистательного Санкт-Петербурга».
Такое загробное существование провоцировало специфическую советскую ностальгию. Не избежали ее и представители так называемой второй, неофициальной культуры, поскольку вместе с образованным большинством разделяли код, предписываемый символическим порядком. У этого предписания, консервативного в вышеуказанном смысле, имелись глубокие основания.
* * *
Одна из уникальных особенностей Санкт-Петербурга, его парадоксальное местоположение на умозрительной карте, состоит в том, что он сразу же — с момента своего основания — возник как реминисценция. Вернее, псевдореминисценция, ложное воспоминание, которое в чем-то сродни фантомной боли. Своим обликом он напоминал то новый Амстердам, то северную Венецию, то Париж, то Афины, то Рим, но как-то фрагментарно, местами, постоянно ускользая от определения собственной сущности, не совпадая с самим собой. Со временем в его каменных чертах проступило даже нечто египетское, нечто настолько древнее, что на фоне его невероятной юности (особенно по меркам прочих европейских столиц) подобная дряхлость не могла не производить пугающий гротескный эффект. В целом же Санкт-Петербург являл постороннему наблюдателю некий полуфантастический собирательный образ европейской столицы вообще или, скажем так, «европейскости». Этот город словно бы прятался под чужими масками, масками других городов, театрально разыгрывая их топографию и архитектуру, памятники и достопримечательности, судьбы и имена, примеряя на себя все исторические эпохи разом. Как если бы Россия в его лице вознамерилась в один миг с удесятеренной скоростью наверстать упущенное: разом пережить и античность, и Ренессанс, и барокко, и классицизм, и Просвещение, припоминаемые смутно, точно во сне.
Эта откровенная эклектичность не раз вызывала довольно язвительные замечания, особенно со стороны москвичей и иностранцев. Так, посетивший русскую столицу в 1839 году маркиз Астольф де Кюстин писал: Калмыцкая орда, расположившаяся в кибитках у подножия античных храмов, греческий город, импровизированный для татар в качестве театральной декорации, великолепной, но безвкусной, за которой скрывается подлинная и страшная драма, — вот что бросается в глаза при первом взгляде на Петербург.
В этом пассаже европейская оптика схватывает самую суть. Можно сказать, что француз набрасывает нервюру того, что станет позднее ментальным «скелетом» или, выражаясь по-юнгиански, архетипом Петербурга: азиатское варварство и греческий портик, театральность, декоративность, искусственность. Безосновность. А главное, из имени уже изъят «Санкт-», «святость» в католической огласовке. Тем самым городу разом отказано и в праве на европейскость, и на «аутентичность». И за всем этим кроется некая таинственная и страшная драма. Драма чего?
Сценарий этой драмы можно попытаться прочесть в имени города.
Имена городов, как и имена собственные, вообще говоря не подлежат переводу. Тогда как имя «Санкт-Петербург» не только переводится, но и предполагает по меньшей мере две версии перевода. Оно поразительно космополитично, в нем соединяются три языка: латинский («Санкт», святой), греческий («Петр», камень) и немецкий («бург», твердыня, город). Святая троица языков, произносимая и транскрибируемая четвертым, русским. Случай в истории небывалый. Основав на окраине империи новую столицу и назвав ее на вавилонский манер, манер смешения языков, Санкт-Петербург, Петр I произвел реформу слуха. Он роковым образом сместил и тем самым деформировал его «центр». Отныне, таково одно из решающих последствий этой де- или реформации, русский слух будет неизбежно настраиваться на балтийскую (средиземноморскую, атлантическую) волну.
Такая встроенность иностранности не могла не травмировать патриархальное православное ухо или, если угодно, дух. Вполне, надо сказать, на тот исторический момент спертый. Спертый: то есть не только запертый в равнинных пространствах и отрезанный от морских торговых путей, но и заимствованный у Византии. Иноязычие, иностранность, обосновавшиеся внутри материкового, материнского языка — это всегда угроза корням, угроза детерриториализации. Петербург не случайно поэтому виделся из глубинной России как апокалипсический город, а Петр I ассоциировался с Антихристом. Тем более что имя города подразумевало две версии перевода: город святого Петра или святой город Петра. Апостол как бы накладывался на царя Петра, и эта двусмысленная, кощунственная фигура намекала на роль российского императора как на закладывающего краеугольный камень в основание новой веры. Она бросала вызов не только папскому престолу, учреждая на берегах Невы новый, Четвертый Рим, но и православной концепции Москвы как Рима Третьего. Здесь, в этой двусмысленности, раздваивалась — четвертовалась? — судьба России.
Имя «Санкт-Петербург» как герменевтический (генетический) код.
Именно в Петербурге (и именно так, без Санкт), ставшем манифестацией новой политической воли, воли к Западу, возникла особая порода людей, которые, продолжая физически находиться в России, мысленно как бы эмигрировали в Европу. Европейски образованные, они мыслили Россию исходя из политических и философских концепций, рожденных на Западе. Согласно этим последним та представала отсталой, неразвитой, азиатской страной, что безусловно отвечало истинному положению дел по меньшей мере в том, что касается политических и гражданских свобод (вернее, их отсутствия), экономики, позорной крепостной зависимости (читай рабства) и государственного устройства в целом. Однако самое ужасное для сознания нарождающейся интеллигенции заключалось в том, что в этих концепциях, таких как гегелевская например, России вообще не находилось места в том, что немецкий философ называл развитием мирового духа. В геополитической и историософской перспективе их родина оказывалась за бортом мирового исторического процесса и того единого духовного пространства, которое носит имя Европы.
Расколотое интеллигентское сознание, переживающее кризис национальной идентичности, получило наиболее точное отражение в романах Достоевского. Достаточно вспомнить Крафта, кончающего самоубийством «из патриотизма», поскольку Россия — второстепенная держава, или такой петербургский тип, как Раскольников. Отождествляя себя с квазиевропейской и квазифилософской фигурой Наполеона (подобного искушения не избежал и Гегель), он раскалывает череп старухи, замещающей в его бессознательном материнскую фигуру. Следуя логике бессознательного и дальше, можно сказать, что европеизированное Сверх-Я Раскольникова стремится разрубить узел инцестуальных отношений, связывающих его с Родиной-матерью, никчемной и «заедающей чей-то век». Такая интерпретация не покажется натяжкой, если принять во внимание, с одной стороны, «семейный роман» и инфантильные черты героя, в которого мать инвестирует все свое либидо, как сказали бы мы сегодня, а с другой, политико-автобиографический подтекст «Преступления и наказания». Достоевский входил в революционный кружок петрашевцев, за что и подвергся наказанию театрализованной смертной казнью. Любопытно отметить фантомное присутствие имени основателя города, а стало быть и первоапостола, в названии кружка, каковое происходит от имени его организатора социалиста Петрашевского. Путеводная нить имени ведет нас к политическому террору и эстетическому/экзистенциальному подполью. Петербург, лишенный своего Санкт, становится родиной и того, и другого. Своего пароксизма эта линия, линия раскола, достигает в романе Андрея Белого «Петербург» с его двойными агентами, переворачивающими оппозицию Россия/Запад, и динамитчиками. На нем завершается классический петербургский миф и петербургский период русской истории. Дальнейшее — это постепенное оформление петербургского текста, его «застывание», превращение в архив и параллельная деконструкция этого архива в романах Вагинова и в «Комедии города Петербурга» Хармса.
* * *
Возвращение городу в 1991 году изначального имени было подобно поднятию крышки гроба или, если прибегнуть к другой метафоре, размораживанию. Последовал стремительный процесс старения всех тканей, разложения. Что отчасти напоминало послереволюционный распад, преобразивший, по воспоминаниям современников, Петроград в прекрасный некрополь, город мертвых (отметим, что все переименования стирали прежде всего вавилонский след, след иноязычия и инаковости в имени города). Этот вызванный историческим катаклизмом распад, наподобие цепной реакции, выделял колоссальную энергию, как бы расщепившую травматическое ядро и породившую головокружительный трансэстетический феномен — радикальную поэтику 20-30-х годов, связанную с именами Вагинова, Кузмина, Андрея Николева, Введенского, Хармса и во многом предвосхитившую не только карнавальную и полифоническую концепции близкого к ним Бахтина, не только послевоенный театр абсурда, но и постмодернистские языковые стратегии. Постмодернистские не в расхожем смысле компромисса между элитарной и массовой культурой из расчета на успех, а в смысле сопротивления как раз такой сделке, сопротивления современности, каковая скрепляет подписью литературные конвенции и обязывает следовать консенсусу вкуса. (Здесь, по-видимому, требуется уточнение. В качестве такового, и из соображений экономии, я хотел бы сослаться на работу Лиотара «Ответ на вопрос: что такое постмодернизм», позволяющую посмотреть на проблему с несколько иной, менее удобной точки зрения: Постмодернистский художник или писатель находятся в ситуации философа: текст, который он пишет, творение, которое он создает, в принципе не управляются никакими предустановленными правилами и о них невозможно судить посредством определяющего суждения, путем приложения к этому тексту или этому творению каких-то известных категорий. Эти правила и эти категории суть то, поиском чего и заняты творение или текст, о которых мы говорим. Таким образом, художник и писатель работают для того, чтобы установить правила того, что будет создано: еще только будет — но уже созданным. Отсюда вытекает то, что творение и текст обладают свойствами события, отсюда же и то, что они приходят слишком поздно для их автора или же, что сводится к тому же самому, слишком рано. Постмодерн следовало бы понимать как этот парадокс предшествующего будущего (post-modo).)
Вышеупомянутый вкус, называть дурным который было бы все же слишком просто, диктует сегодня вновь закрепить за Санкт-Петербургом титул столицы: «северной» и/или «культурной». В российских средствах массовой информации эти прилагательные употребляются как взаимозаменяемые, по существу — как синонимы, а иногда и вообще опускаются. Опускаются и оседают в коллективном бессознательном, где и разбухают до размеров фантазматического тождества с оттенком неизбежного «ретро». В результате такой массированной операции, контаминирующей традиционный для Петербурга троп «северная Пальмира» и некогда присущий ему ореол «столичности», город, который фактически является сегодня областным центром, приобретает символическую стоимость «столицы». Эта последняя превращается в прибавочную с той же легкостью, с какой национальная гордость становится отраслью индустрии туризма.
Это лингвистическое ухищрение, безусловно льстящее сознанию ностальгирующих по былому величию петербуржцев, оказавшихся по существу в положении провинциалов, наводит на мысль о своеобразном стыдливом жесте символической компенсации со стороны столицы подлинной, Москвы. Коль скоро именно в Москве сосредоточены средства массовой информации, не стоит большого труда догадаться, что в их устах риторическая фигура «северная столица» представляет собой своего рода эвфемизм признания задним числом «исторических и культурных заслуг» бывшей имперской столицы, конкуренции со стороны которой можно уже не опасаться. Знаком конца петербургского периода российской истории послужил перенос столицы и, соответственно, переезд правительства в Москву при большевиках, которые ввели в обиход для Ленинграда другой эвфемизм: «колыбель трех революций». Он носил ярко выраженный идеологический характер и апеллировал в первую очередь к сознанию пролетариата, этого могильщика буржуазии. Словосочетание «северная столица» на таком эсхатологическом фоне звучит вроде бы подчеркнуто нейтрально, как нечто деидеологизированное и лишенное политических коннотаций, что соответствует господствующей в последнее время тенденции придавать невинно-нейтральный вид высказываниям, камуфлирующим идеологию общества первоначального накопления капитала. Но для того, кто знаком с историософской подоплекой взаимоотношений двух столиц, в формуле «северная/культурная столица» неизбежно проступает геополитический подтекст противостояния Москвы (женственной, подлинно русской, укорененной и расположенной в центре) и Петербурга (фаллического, псевдоевропейского, искусственного и эксцентричного). В этом противостоянии Петербург потерпел поражение по всем статьям, за исключением той, что проходит по ведомству Министерства культуры: таков скрытый смысл снисходительного признания за ним статуса «культурной столицы».
Стало быть, эта насаждаемая средствами массовой информации ретро-фигура, фигура ретро, призванная возвышать петербуржцев в собственных глазах, преследует политические цели и в целом вписывается в стратегию постсоветского политического дискурса по приданию идеологии видимости чего-то нейтрального, «естественного», «само собой разумеющегося». В данном случае мы вновь имеем дело с эффектом того, что Ролан Барт в свое время описал как похищенный язык или, в терминологии Якобсона, код. Этот код надстраивается над традиционным, историософским «кодом» Санкт-Петербурга, который, в свою очередь, также нуждается в дешифровке. Собственно, такой дешифровкой и занималась русская литература начиная с «Медного Всадника» Пушкина и кончая романом Андрея Белого «Петербург», образовав в результате то, что позднее получило известность как петербургский текст. Ирония, однако, заключается в том, что в литературе не бывает дешифровки в чистом виде. Литература скорее декодирует и перекодирует, нежели дешифрует. Поэтому даже после того как на смену русской литературе пришла советская, ей достало ресурсов, чтобы уже в двадцатые годы создать такие шедевры иронического перекодирования петербургского текста, как «Египетская марка» или «Козлиная песнь».
Разумеется, возникновение эвфемизма со столь явным фетишистским (по отношению к прошлому) оттенком оказалось возможным благодаря возращению городу его изначального полного имени: Санкт-Петербург. Это возвращение, если воспользоваться терминологией Фрейда, явилось своеобразным возвращением вытесненного. Однако вместо аналитической проработки имеет место ремифологизация и музеефикация в русле заимствованной по большей части из арсенала дореволюционной эпохи аксиоматики. Когда те или иные деятели искусства и литературы говорят о возрождении Петербурга, его классического наследия и традиционных ценностей, они в лучшем случае имеют в виду их декоративную сторону, воплощенную в эстетике «Мира искусств», Дягилевской антрепризе, поэтике символистов и акмеистов. Так, как будто не было крушения этих ценностей (и прежде всего — историзирующего, гуманистического, «культурного» сознания) в 20-30-е годы. Желание пережить заново, реанимировать «серебряный век» означает, помимо фетишизации прошлого, еще и политическую слепоту, поскольку подразумевает неизбежное возвращение того, что за ним последовало — исторический катаклизм, чьи последствия, быть может, нигде не сказались столь катастрофически, как в Петербурге.
* * *
Перекодирование — это всегда трансляция и ретрансляция кода, способствующая его сохранению, пусть и в искаженном виде. Одним из последних блестящих подтверждений чему является «Пушкинский Дом» Андрея Битова. «Пушкинский Дом»: Институт Русской Литературы, то есть ее архив и ее же музей в одном лице, за одним фасадом и под одним куполом. Колпаком. Насколько этот колпак шутовской, гоголевско-достоевский, говорят названия глав. Говорят, каково жить в литературе, ставшей музеем.
Петербург: не имя ли это такой музеефикации под открытым небом?
Музеи приходят на смену храмам, их посещают по воскресеньям, как мессу, всей семьей. Последний рудиментарный ритуал в эпоху десакрализованных пространств и смерти Бога. Музей — это склеп, «милый Египет вещей», проникнутый вроде бы безопасным (научным) духом, духом классификации покойного прошлого. Вагинов первым почуял этот трупный запах. Его персонажи — последние, опустившиеся на дно истории (жизни) антиквары, собиратели сновидений, ногтей, волос, непристойностей, конфетных бумажек, спичечных коробков, похабных граффити. Экскрементов стремительно люмпенизированной культуры. Эти люмпен-антиквары и сами чувствуют себя экспонатами, бабочками-однодневками, пришпиленными булавками к красному комсомольскому сукну, суконному новоязу. Язык мертвеет, срастается с «советским дичком», дышать нечем, уже невозможно индивидуальное высказывание, только какое-то анонимное бормотание, жуткое нашептывание. «Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя», — уведомляет в предисловии автор. Его четверокнижие о гибели и превращении Петербурга в Ленинград — настоящая ладья мертвых, течением пост-истории прибитая к берегам Невы. Она совершила кругосветное плавание. Плавание через тот свет.
Или дошедшие до нас фрагменты «Комедии города Петербурга» Даниила Хармса, где наряду с историческими персонажами действуют герои русской литературы, где перемешиваются времена, коверкается язык и где в какой-то момент рождается чудовищный хронотоп, химерический и возвышенный одновременно: Летербург. Город Леты, забвения, город летературы.
Череда переименований расчленяет тело города в нескончаемом принесении в жертву, ритуальном убийстве. На политический террор летература отвечает идиотизмом, мычанием, афазией, расстройством уже не только всех чувств (Рембо), но синтаксиса и грамматики. Отвечает поэтическим террором; они сплетаются в смертоносном объятии.
Санкт: вечное возвращение вытесненного.
Музей — аквариум коллективного бессознательного, до краев налитый прошлым. Его базовый принцип, незримо присутствующий на всех без исключения экспонатах, подразумевает запрет. Не в смысле таблички «руками не трогать», а более глубокого, конституирующего саму сущность музейности запрета на воспроизведение, не случайно наказуемого при его нарушении в судебном порядке. Как продемонстрировал Борис Гройс в отношении музеев современного изобразительного искусства, если данная картина, фотография, инсталляция, архитектурный проект «уже были», значит так рисовать (писать, строить, снимать, инсталлировать) больше нельзя. Музей, таким образом, ставит художника в положение вечно опаздывающего эпигона, последыша, который вынужден пускаться во все тяжкие, лишь бы не подражать уже существующим, признанным, то есть помещенным в музей, шедеврам. Тем самым он оказывается в своеобразной трансцендентальной ловушке: сознательно избегая подражать конкретным образцам, он в то же время обречен бессознательно подражать самому принципу их образцовости, воспроизводить тот общий принцип, по которому они были признаны образцовыми и отобраны для музея. Перенесенный в городскую среду, особенно в такую высокосемиотичную, насыщенную литературными аллюзиями и историческим подтекстом, как петербургская, музейный принцип, выраженный в формуле «уже было», порождает тошнотворное ощущение бесконечного дежа вю, буквальной, физиологически ощутимой перенаселенности тенями литературы.
Такая перенаселенность образует своего рода пелену, ведущую к аберрации зрения. История парализует, превращает петербуржцев в истероидные, невротические, эпилептоидные тела. В субъектов культуртрегерского террора. Вот здесь жил Пушкин, здесь — Гоголь, здесь — Лермонтов, здесь — Достоевский, здесь — Блок, здесь — Ахматова, а вот здесь — о, ужас — Бродский. Даже самые, казалось бы, недавние события и тексты, тексты как события, консервируются, сдаются на наших глазах в архив. Это не означает, что они утрачивают свою актуальность. Это значит, что из разряда события они переходят в ранг реминисценции, пускай прекрасного, но воспоминания, то есть чего-то такого, что по определению принадлежит не живой традиции, а окаменевшим руинам. Каковыми и предстает нам сегодня история, распавшаяся на выставленные в музейной витрине фрагменты.
(Юношество, говорит Ницше в одном месте, имея в виду историческое образование, «как бы прогоняется сквозь строй столетий». Эта садистская метафора должна быть особенно близка жителям Петербурга, где, как известно, прекрасно уживаются «дух неволи» и «стройный вид». Исполосованная шпицрутенами, превращенная в сплошное месиво спина солдата культуры — «маленького человека», петербургского чиновника, разночинца, выкреста, интеллигента, которого толпа тащит топить в Фонтанке — такова цена инициации, посвящения в историю (летературу)).