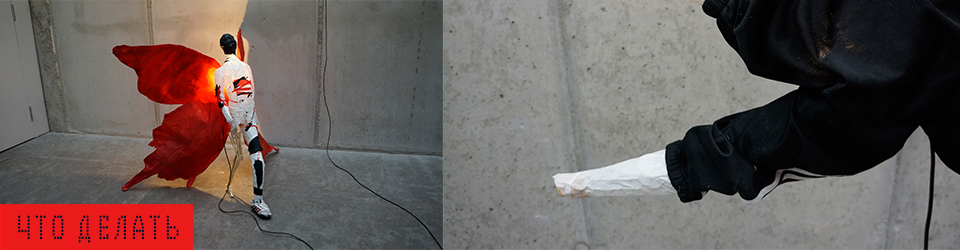Действующие лица:
Лиза Штерн — философ, 30 лет
Петруша Золотокобылкин – философ, ее молодой человек, 40 лет.
Лиза: Петруша, нам с тобой нужно серьезно поговорить. Ты совсем не смотришь на меня, отводишь глаза. Ты отстраняешься, когда я тебя обнимаю. Ты занимаешься со мной любовью молча и называешь этот волшебный акт близости двух сердец грубыми, унизительными словами. Я серьезно подозреваю, ты меня разлюбил!
Петруша: Лиза, что ты, как ты только могла такое подумать! Ты же знаешь, что я просто малоэмоциональный человек. Я могу любить тебя, рисовать тебя, я могу покупать тебе дорогие и полезные подарки, я боюсь смерти и побаиваюсь женщин (кроме тебя) – но зачем по этому поводу стулья ломать? Разводить театральщину? Что такое так называемая эмоция, как не просто гипербола, преувеличенно возбужденное изложение мысли, которую можно было бы просто лучше объяснить?
Аристотель излагает свое учение о страстях именно в «Риторике». А я не люблю риторики, она мне кажется напыщенной. На мой взгляд, если кто-то по десять раз на дню признается в любви, и по десять раз на дню расстраивается по ее же поводу, тот либо сам не испытывает достаточно любви, то ли сомневается в ней. Я больше скажу, бурные излияния любовных чувств мне кажутся способом заговорить тайную ненависть. Или вполне понятный страх перед совершенно чужим человеком, которого ты случайно приобрел (человека, а не страх).
Лиза: Не уходи от ответа, сволочь ненаглядная! Так любишь или нет, что ответить сложно? И вообще, любовь это не «эмоция». Любовь это большая возвышенная страсть. Я с тобой отчасти согласна, что манерность, излишняя аффектация, которая входит у нас еще порой в набор стандартной женственности. Но любовь это не то же самое, потому что она активна. Ее можно сравнивать, например, с энтузиазмом по поводу исполнения пятилетки или по поводу войны. В этом смысле любовь, и вообще то возбуждение, о котором ты говоришь, это большая утвердительная страсть, а не пассивное переживание, которое нахлынуло и схлынуло.
Петруша: А я согласен с этим. Но такая большая страсть переживается порой апатично. Жак Лакан, этот французский неошаман, замечал, что маркиз де Сад, с его поиском новаторских видов наслаждения, изображает своих героев холодными. Они следуют своей страсти как закону.
Лиза: Ну вот опять! Как ты можешь даже проводить такое оскорбительное для меня сравнение! Любовь это не болезнь, а благородное и нежное отношение верности, верности событию встречи!
Петруша: Этот энтузиазм и постоянное выражение верности для меня граничат с верноподданичеством. Я еще помню советское общество, с его заорганизованностью и идеологичностью. Современная «любовь» всегда напоминала мне даже не христианство, от которого непосредственно произошла, а марксизм-ленинизм, некий высокопарный официоз, уводящий нас от реальности в абстрактный и беспредметный идеализм.
Лиза: Ну вот, признался! Ты меня не любишь.
Петруша: Я тебя люблю. Это объективный физический факт. Но я не люблю любовь к любви — то есть не вижу смысла удваивать и утраивать сущности.
Лиза: Ты даже не бесчувственная скотина, а гораздо хуже. В твоих речах звучит уже не апатичность, а тоже риторика – риторика разочарования, цинизма, и провокации. Ты стесняешься своих чувств и хочешь, чтобы они нахлынули на тебя независимо от твоей и моей воли. И поэтому ты проповедуешь антикоммунизм.
Петруша: Да, печаль и гнев – это анти-аффекты. В умеренных дозах они полезны, потому что способствуют отрезвлению и объективному познанию. Посмотри на современную массовую культуру: кино, рекламу, социальные сети – с одной стороны, нас окружает любовь к любви, эта тщетная суетливая сентиментальность, умиляющаяся слабости и хрупкости. А с другой, кинофильмы постоянно нас пугают, перед этим проигрывая тревожную музыку. А для образованных («фестивальное кино») – тяжелая депрессивность, усугубляемая повальным сочувствием к бедности, выискиванием обиженных. Люди впадают в депрессию, потому что пугаются своих негативных эмоций, впадают в страх страха, печалятся от печали, тревожатся от тревоги. И это вводит их уже не просто в меланхолию, а в ступор.
Лиза: То, что ты описываешь, милый, это дурное, патологическое удвоение, остановка чувств. Настоящая страсть не останавливается от того, что рефлексируется и применяется к себе, а наоборот, усиливается и освобождается, точнее приосвобождается от объекта. Любовь к любви есть тоже любовь, она подхватывает там, где запнулась на своем упертом объекте первая, но делает это уже шире, мощнее, переходя от фетишизма к настроению, некой форме, которая окрашивает весь мир и весь опыт. Именно такова моя любовь. Но без объекта, который дает ей начало – тебя, мой сладкий – она не раскроет своих объятий мирозданию. Ей нужна привязка к завораживающей «фигуре», чтобы благосклонно осветить остальной мир как своего рода «фон». Аристотель, у которого ты почему-то прочел только «Риторику», в «Поэтике» называет этот механизм очищением, «катарсисом» страсти. Ударение на первый слог.
Платон, учитель Аристотеля, занимал позицию, в чем-то похожую на твою. Он выступал против сентиментальной поэзии и вообще сострадания. Именно из его учения возник потом столь популярный у вас, мужчин, аристократический стоицизм – правда, для эротической любви он делал, к его чести, исключение и считал ее полезной для своей теории истины.
Петруша: Которая именно потому и оставалась религиозной и моралистической.
Лиза: Которая именно потому впервые поставила вопрос о скрытой сущности вещей!
Так вот, мы плачем по поводу несчастья другого, говорит Платон, но представьте себе, не дай бог, что несчастье произошло с вами – вы не будете сразу плакать и жалеть себя, вы соберетесь и постараетесь спастись с наименьшими потерями. Но Аристотель — сын врача, привычный к боли — отвечал ему: нет, боль переживания нужна и пострадавшему, чтобы преодолеть от заклятия беды, вышибить пассивность клином самой пассивности.
Петруша: Здесь уже не идеология и не религия, а какой-то шаманизм, архаика колдовства и жертвоприношений. Да, я критически отношусь к религии личностной любви (не к самой любви, а именно кк религии ее) – это какая-то приватизирующая пародия на христианство, узурпировавшая формат республиканской добродетели. Но сейчас ты интересно рассуждаешь и копнула глубоко. Любовь (эрос), страх и сострадание были и до христианства. Это были коллективные страсти (можно любить одного человека, но тебя все равно охватывает дионисийское неистовство). И они всегда выглядели как своеобразное материальное волшебство. Влюбленный околдован возлюбленным, паника насылается богом Паном, меланхолия выглядит как сглаз, превративший твое тело в вещь. Эта мистика и сегодня стоит за суетой сентиментальной пропаганды. Но каковы ее реальные причины?
Жан-Поль Сартр считал эмоции результатом своеобразной светской магии. В том смысле, что мы идентифицируемся с окружающими вещами – людьми, объектами и ситуациями – и общаемся с ними, даже если они нас не слышат, как будто бы были полностью проницаемы для нашей воли. А наши свободные мысли и действия, наоборот, превращаются внутри нас, под чарами окружающего мира, в инертные вещи. Некоторые вещи как бы ловят наши помыслы, но тем самым останавливают и блокируют их. Эмоция есть ориентация в чарующем мире.
А аффективные действия — архаический театр. Страхом мы символически отпугиваем напугавшие объекты, дрожим, чтобы расшевелить гнетущую ситуацию. В депрессии, наоборот, сами превращаемся в эти объекты и разыгрываем печальные ситуации в своей душе, а любовь это как раз магия наиболее перспективная, потому что она воздействует на другого человека путем идентификации с ним и вовлечения его в аналогичную идентификацию тоже, в обмен телами и кожей. Ты, например, выводишь меня из себя, чтобы ввести в себя.
Лиза: Опять, опять и опять ты сводишь все к плотским утехам!
Петруша: Вот ты кричишь, повторяешь все по три раза, чтобы разрушить мои барьеры, проникнуть в меня – магически, не буквально. И средства массовой информации бомбардируют меня шоками, чтобы поймать меня, схватить за живое.
Лиза: Да что в тебе осталось живого?
Петруша: Живое это реально существующее и упорствующее в своем бытии. Его во мне больше, чем в тебе.
Лиза: Нет, живое это дрожащее и танцующее, чтобы объединиться с разрозненными предметами мира. Где оно в тебе? Где, скажи мне?
Петруша: Мне кажется, когда ты говоришь о любви, ты на самом деле говоришь о некой пружине жизни, о ее секрете (секрет половых желез лишь символ ее, а не как некоторые думают). Вся эта магия, религия и идеология — лишь неадекватный способ погони за истиной, в смутных образах табу, Бога и идеи. Ты издеваешься надо мной уже полчаса потому, что сомневаешься в подноготной моих чувств, то есть ищешь во мне главное, оно же хрупкое и трепещущее — кащееву иголку.
Лиза: Ну, главной для тебя должна быть я.
Петруша. Конечно, ты главная у нас в семье. Но вообще в жизни человека много главных событий и главных людей. Мир не устроен как монархия, хотя в нем и царит моногамия.
Лиза: Серийная моногамия и серийная монархия.
Петруша: Вот тут я за. И главное обнаруживается периодически, образуя островки интенсивности и перешейки верности им, которые требуют и тревоги, и уверенности. Но важно понимать, что происходит, важна истина, несводимая к нашей воле. А аффект что….
Лиза: Что-что. Аффект — это символ постижения сущности, предстающий на материальном, экзистенциальном уровне как прощупывание точек предельной уязвимости.
Петруша: На уровне материальной пассивности эти точки – также зоны интенсивнейших наслаждения и боли, а на уровне материальной активности они выступают как темы и предпосылки судьбоносного действия.
Лиза: Согласна. И поэтому на уровне словесной, интеллектуальной символики аффекты выражаются в гиперболах, в нежном лепете и скверном хохоте, раздувая значимость чувственного факта вплоть до нелепицы, так как значимость этого факта далеко выходит за его собственные пределы.
Петруша: Но если сущность, истина, хороши для человека сами по себе, перпендикулярно к нашим чувственным стремлениям и огорчениям, то символ сущности – экзистенциальный центр конечной жизни — и привлекает в любви, и отталкивает в ужасе, и томит в своей инертной вещности.
Лиза: Так где же у нас центр этого циклона?
Петруша. Не знаю, Лиза… Любви ты так сказать, искала, но не нашла.
Лиза: С тобой это безнадежно, дорогой. Но зато я нашла ей красивое определение.
Петруша: Да, кажется на сегодня разобрались.