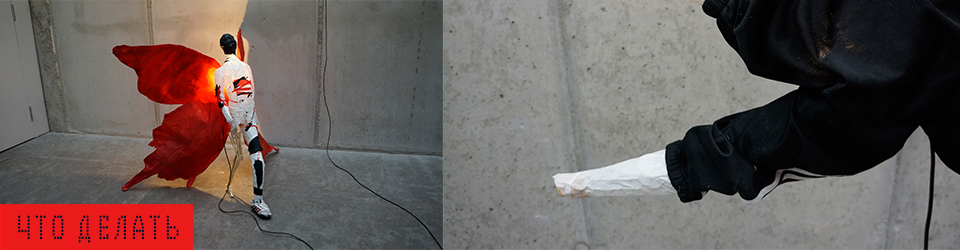Словом «фашизм» в сегодняшнем мире чаще всего кидаются как страшным обвинением, в отношении своих политических врагов. В России, например, это обвинение бросают власти в отношении внесистемной оппозиции и недружественных западных стран, оппозиция адресует его самим властям (в ответ на избиения демонстрантов, на создание молодежных активистских организаций и на агрессивно националистическую риторику), а ультраконсервативная оппозиция обращает его против тех и других как против врагов русского народа, продолжающих якобы дело Гитлера. Подобная же инфляция происходит на Западе. Значит ли это, что термин стал совсем пустым, и служит просто для демонизации оппонента и приписывания ему всех качеств, которых сам не принимаешь?
Не совсем все-таки так. Надо сказать, что исторический фашизм (понимаемый среднешироко, то есть включающий не только итальянский фашизм, но и немецкий нацизм, но не правые диктатуры типа Пилсудского или Хорти) сам располагает к вольному проективному прочтению, поскольку он был противоречивым, компромиссным во многом движением, и в нем можно найти разное – и мобилизацию масс, и репрессию оппозиции, и империалистическую агрессию против других стран, и массовые убийства по национальному признаку, и другое. Можно выбирать на свой вкус (как сказал однажды Ортега-и-Гассет, фашизм «всегда будет одновременно и А, и не-А»). Кроме того, фашизм был феноменом реактивным – определял себя как реакцию на другие существующие силы. Немецкий правый историк Э. Нольте даже предложил определение фашизма как трех «анти-»: антимарксизм, антилиберализм, и антиконсерватизм (добавляя «вождистский принцип», наличие партийной армии, и некие нечетко определенные «тоталитарные цели»).
И тем не менее, фашизм – это осмысленное и сегодня понятие, которое не имеет ни абстрактно-вневременного (как «птица» или «жидкость») значения, ни чисто исторического значения, которое бы относилось к прошлому и употреблялось бы сегодня только метафорически (как например: «боярство» или «опричнина»). Это так называемое «историческое понятие» (в смысле О. Бруннера и Р. Козеллека), которое отсылает нас к определенному историческому горизонту (в нашем случае – с начала 20 века, когда оно зародилось, по сегодняшний день), но которое в то же время можно более или менее четко определить, хотя речь идет не о видах одного рода (как галка и попугай – виды птиц), а скорее о семье, в которой члены похожи друг на друга отдельными чертами, но их родство становится полностью ясным лишь из их общего происхождения.
Существует ли фашизм сегодня? Ответ на этот вопрос, по-моему, очевиден. Конечно, да! Но это не любое нелиберальное течение, не любое мобилизационное течение, не любое течение, которое призывает убивать людей, не любое антисемитское и не любое правоконсервативное течение. Скорее, это течение, которое подпадает под все эти категории сразу (хотя не обязательно все). И в этом смысле оно будет резко выделяться в нашей привычной политической палитре. Дело, правда, не только в политической программе – которая в фашизме носит популистский и поэтому эклектичный характер. Не менее важен для фашизма специфический стиль выражения и подачи. Он даже особенно важен именно для этого типа политических сил.
Во-первых, потому, что фашистские движения (особенно нацисты в Германии) пришли к власти в результате высокоэффективной пропаганды, гибкого использования популистских лозунгов, тотальной мобилизации средств массовой информации (газет и особенно радио), талантливой риторики лидеров.
Во-вторых, потому, что с точки зрения критиков фашизма, например, немецкого левого философа Вальтера Беньямина, это политическое движение было революционным только на словах, не проводя серьезных радикальных изменений в структуре общества. То есть революционная экспрессия подменяла здесь революцию. И более того, как правило, фашистская экспрессия прибегала к агрессии, пропаганде войны и героической смерти, как к самым эффектным (быстрым и массовым), и в то же время самым неконструктивным, видам деятельности.
Специфический стиль фашистской пропаганды заключается в том, что она очень театральна. Гитлер в своих речах (например, запечатленных в «Триумфе воли» Рифеншталь) чередует истерические припадки и фазы полного спокойствия, когда он даже улыбается от наслаждения собственным ораторским талантом. В «Майн Кампф» он пишет, например: «Всякая пропаганда должна быть доступной для массы; ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственной самым отсталым индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воздействовать. Чем к большему количеству людей обращается пропаганда, тем элементарнее должен быть ее идейный уровень. А раз дело идет о пропаганде во время войны, в которую втянут буквально весь народ, то ясно, что пропаганда должна быть максимально проста». Между тем сама эта фраза обращена именно к массам, и даже тройное повторение сказанного, для доходчивости, иллюстрирует высказанную Гитлером мысль. То есть фашистский идеолог не скрывает, что он идеолог, и что если не лжет напрямую, то во всяком случае говорит то, что хочет внушить массе.
Как такое может вообще работать?
Дело в том, что объект этой пропаганды, немецкий люмпен, разоривщийся мелкий буржуа, разочаровавшийся в профсоюзах рабочий, или даже опасающийся коммунистов крупный промышленник, не веря, возможно, содержанию риторики, впечатляется ее силой. Разочарование в идеологическом «содержании», в политике вообще, отливается в идеологию всесильного субъекта как такового. То есть человек, не верящий уже ни во что, продолжает верить в волю пропагандистов (или просто журналистов), которые могут что-либо убедительно доказать, которые утверждают некие ценности, и придают им смысл самой силой своего убеждения. Тогда, по образцу риторически одаренного и фанатично преданного идее фюрера, каждый маленький человек утверждает своей волей ценности, не имеющие никакой объективной основы. Как и фюрер, он считает, что ничего в мире по сути дела поменять нельзя, и остается лишь самовыражение. Естественно, что агрессивное самоутверждение становится тогда, вопреки кажущемуся отказу от содержания, единственным настоящим содержанием такой идеологии – при том, что каждый цинично-эгоистический винтик думает, что причастен цинично-эгоистической «воле» всесильного коллективного субъекта. Обратной стороной этого нигилизма является завороженность технологией силы – и потому именно Гитлер сам объясняет читателю свои риторические приемы.
Вот такое описание звучит уже совсем современно, и даже, как может показаться, слишком уж обобщенно. Но это не просто описание, а выделение ядра фашизма, которое никуда не исчезает, пока не исчезают социально-исторические условия фашизма. Это капитализм, разобщающий людей и отчуждающий их от материи и истории, так что общественные законы кажутся потусторонней мистикой, изменение их – подвластным только мифической магии, а единственной реальностью – коллективный или индивидуальный одиночка-субъект. И это политика, осуществляемая через одностороннюю пропаганду в средствах массовой информации.
Конечно, в историческом фашизме было не только это. Некоторые его черты, как например массовая мобилизация, патриархально-авторитарная идеология, и даже, пожалуй, биологический расизм, связаны с уходящими в прошлое чертами общества (господство крупной промышленности фордистского типа, традиционная семья, относительная моноэтничность), и вряд ли смогут породить сегодня массовое движение. Некоторые же черты – революционность в авторитарной форме, реваншистский милитаризм, насилие против тех или иных меньшинств, иррационализм и легитимация мистико-оккультных учений, сублимация реальных общественных проблем – напротив, остаются популярны и могут, при определенном стечении обстоятельств, быть снова «нанизаны» на ядро экспрессивного самоутверждения отчаявшегося субъекта.
Вообще, содержание фашистской идеологии очень часто строится по оппозиции к господствующему либеральному дискурсу. Нацизм (да и итальянский фашизм с его темой «украденной победы») были движениями реваншистскими, и многое в их программах и действиях – например, уничтожение евреев и цыган, порабощение славян, черная форма –
выглядит как нарочитая игра в «дьявола» или «плохого мальчишку».Не имея независимого источника ценностей, нацизм заимствует их из просветительского либерализма с обратным знаком. Германия, столкнувшаяся с моралистическим и просветительским осуждением ее «агрессии» победившими в Первой Мировой державами, выбрала демонстративную риторику и практику, зеркально противоположную либерализму как просветительскому идеализму. И это особенно верно в нынешнем мире, где, после Второй Мировой войны, фашизм и его проявления подвергаются особенно моралистическому «политкорректному» осуждению.
В этом смысле марксисты 20х и 30х годов были правы, когда считали фашизм симптомом либерализма. Но они не поняли диалектического характера их связи. Фашизм – это разыгрывание той самой роли (бунтаря против Просвещения), которую либерализм демонизирует – разыгрывание в той самой демонической форме. Поэтому фашизм полностью зависит от либерализма, порождается либеральным мироустройством, и тем самым компрометирует те иные точки зрения, например леворадикальную, которые полемизируют с либерализмом по содержательным вопросам.
Но либерализм связан с фашизмом и в другом, противоположном, смысле. Когда либерализм перестает бороться с мировым злом и уверяется в своей монополии, то он может порождать фашизм из чисто формальных соображений, чтобы продемонстрировать «плюрализм», доказать тем самым пустотность политики и нейтрализовать левую оппозицию. Недавнее вручение премии Кандинского откровенно фашизоидному (по форме и содержанию) художнику А. Беляеву-Гинтовту хорошо иллюстрирует эту логику, хорошо известную по политике итальянских правых либералов в отношении Муссолини. Гинтовту дали премию не из симпатии к его взглядам, а из желания дистанцироваться от тенденции искусства вообще и уравнять в этом смысле правых и левых художников. Но такой опустошенный формализм как нельзя лучше соответствует природе самого фашизма – именно подчеркивание своего пустотного, полуигрового и якобы неопасного характера и позволяет фашистам завоевывать сердца. Поэтому же фашизм остается опасностью на сегодняшнем Западе. Именно правые группы являются там зачастую наиболее политизированными, боевыми, выходящими за рамки консенсуса. Левые же слишком держатся за истеблишмент. И вот, леволиберальные теоретики, например, Э. Лаклау и Ш. Муфф, реабилитируют эти правые группы, видят в них надежду для «либеральной демократии», утверждают, что между левой и фашистской гегемонией нет никакого существенного различия. Этот формализм – следствие отказа Лаклау и Муфф от марксистской политической и теоретической программы. Но он влечет за собой опасную апатию и слепоту перед лицом серьезного поправения западного общества.
В сегодняшней России фашизм не является, слава Богу, доминирующей идеологией или политической силой. Такой силой является консервативно осмысленный либерализм.[1] Но фашизм стоит в России на повестке дня – власть имущие и боятся его, и пугают им либеральную оппозицию, и, в то же время, заигрывают с ним.
Во-первых, в сегодняшней России есть не только небольшие праворадикальные группировки молодежи, убивающие непохожих на себя, но и популярные фашистские интеллектуалы – в частности, А. Дугин и Г. Джемаль. Сами они себя фашистами не называют (Дугин, впрочем, однажды применял к себе это слово в 1990е). Однако типологически их тексты принадлежат к фашистской «семье». Это нарочито вычурная и часто не выдерживающая рациональной критики риторика, содержание которой, при всей его эклектичности, имеет некоторые инварианты: мистические эсхатологические сценарии, империалистическая пропаганда войны со стороны подчиненных на данный момент групп и стран («Евразия» или исламский пролетариат) и т.д. Оба совмещают призывы к обездоленным с пропагандой авторитарного подчинения. До поры до времени эти тексты оставались популярным чтивом, не вызывающимморальной или политической «цензуры» в стране, где последствия Второй Мировой не были осмыслены в моральном духе, и где общественный консенсус является идеологически правым. Однако сегодня идеи Дугина находят практическую реализацию в возглавляемом им «Международном Евразийском Движении» и в других праворадикальных группах, используются для оправдания прямого насилия над чужаками (причем не над вообще нерусскими, а над определенными группами, не вписывающимися в «Евразию»). При этом Дугин был советником Председателя Госдумы, а недавно (2008) стал профессором социологического факультета МГУ, часто приглашается с докладами в СПБГУ, и в этом смысле почти полностью легитимирован.
Во-вторых, вокруг откровенного фашизма Дугина или Джемаля есть большая зона, которую можно назвать фашизоидной. Она создает климат, в котором тексты и жесты упомянутых авторов воспринимаются как комильфо.
Уже начиная со второй половины 90х в обществе утвердилось манипулятивное отношение к политическим текстам и идеям («политтехнология»), появился особый циничный стиль агрессивной риторики, которая не скрывает, что она чисто демонстративна и «берет» своей эффективностью. Впервые, наверное, этот стиль «придумал» В. Жириновский. Потом он широко использовался, например, в «войне», прошедшей на российских телеканалах в 1999 г. (стиль С. Доренко), и по нынешний день характерен для крайне агрессивной националистической риторики М. Леонтьева («Однако»), причем в обоих случаях речь идет о ранее либеральных и рассудительных по стилю журналистах. Идущая Чеченская война; противоречия в международных отношениях России предоставили возможность относительно легитимно предаваться риторике насилия.В то же время эта риторика обслуживает «освободившегося» от идеологии, но фундаментально пассивного субъекта, который не готов отказаться от того малого, что обеспечивает его субъективность (квартира, образование, признание своего класса), но хочет хоть как-то выразить и свое я, и свою фрустрацию от господствующей пустоты.
Эстетизация насилия была характерна и для массовой культуры 1990х, см. напримерфильмы типа «Брат», «Брат-2», «Бригада» и т.д. Кроме того, еще с застойных времен, в обществе, в том числе среди интеллигенции, возник огромный интерес к мистическим, оккультным теориям и практикам всевозможного толка, который и выплеснулся во время перестройки, совпав с популярностью коммерческого New Age в западных СМИ.
Если в 90х риторика насилия, а также национализм и оккультизм, носили в основном игровой, эстетизирующий, и в то же время манипулятивный характер, то в 2000е годы, после прихода к власти В. Путина, они стал приниматься все более всерьез – хотя степень насильственности уменьшилась, распространенность подобной риторики среди публичных фигур возросла. Часто эксплуатирует ее и сам Путин, как бы «срываясь» с официального стиля (сортир, обрезание и т.д.), публично унижая своих подчиненных. Кроме того, в 2000е годы фактически официальной идеологией России стал агрессивный национализм, который не носит, правда, этнического характера и редко ведет к прямому милитаризму, но, тем не менее, является одним из центральных риторических жанров (истории про происки врагов и скучную глупость политкорректных американцев).
Итак, в сегодняшней России существует некий фашизоидный фон, на котором, в условиях резкого социально-экономического слома, и в условиях, если будет неудачно испробована и провалится очередная либерально-демократическая реформа, возможно усиление фашистских движений и их союз с властью.Этот фон можно описать как комплекс популярных и как минимум легитимных, терпимых для общества установок, среди которых: манипулятивно-циничное отношение к любым идеям, поиск «мифов», которые надо якобы сознательно создавать (и то, и другое характерно для многих либерально настроенных интеллектуалов), эстетизация насилия и насильственной риторики, националистическая ксенофобия, мотивированная комплексом национального унижения, наконец, наличие полулегальных боевых молодежных групп. Если с праворадикальными группировками должна бороться полиция (которая этого не делает), то с фоном бороться должен каждый гражданин, и особенно интеллектуал на своем рабочем месте. Нужно создать ситуацию, в которой фашизм или полуфашизм перестанет быть комильфо. Но этого не достичь обычной политкорректностью, либеральным морализмом. Они – часть проблемы, а не ее решение. Вредным является и чрезмерное обобщениепонятия «фашизм», распространение его на любую нелиберальную тенденцию, демонизация оппонентов. Только вовлечение людей в конкретную демократическую дискуссию о судьбе страны, демонстрация ограниченности цинизма и эгоизма, критика капитализма, вскрытие корней и бесперспективности исторического фашизма, серьезное просвещение масс в философско-научном смысле (а не в смысле позитивизма, который как раз и порождает мистику в качестве своего необходимого дополнения) – только это просвещение слева, вкупе с практической борьбой за демократизацию политики и экономики, может лишить фашизм его вульгарного обаяния.
[1] Под таковым я понимаю смесь либерализма и консерватизма, где за консерватизмом остается последнее слово, но при этом он себя как таковой не осознает: либеральный индивидуализм, экономизм, рационализм понимаются через: примат «естественных» семейных ценностей и частной жизни, предпочтительность авторитарной модели модернизации и стабильного «устойчивого развития», нежелательность любых потрясений, и превосходство образованной элиты над непросвещенным «быдлом».