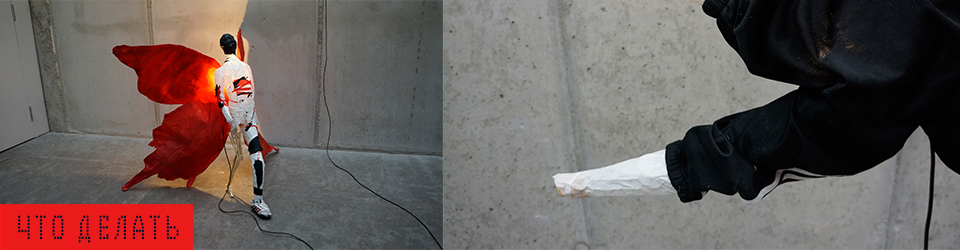Диалог о насилии
Диалог впервые был опубликован на сайте www.republic.ru 2 сентября 2019 г., в рубрике «Философия»»
Действующие лица:
Лева – преуспевающий писатель
Вера – студентка, изучающая философию
Разговор происходит в купе поезда Москва-Санкт-Петербург в 1889 г.
***
Вера:
Он сказал, что я дура, и дал мне пощечину.
Лева:
Кто?
Вера:
Петруша. Он студент старшего курса и сын тайного советника. Я пришла к нему посоветоваться насчет географии, и он стал меня лапать, а я – вырываться. Что я могу сделать? Я слабая женщина, и связей у меня нет, разве что вот кроме тебя, Лева. Но как ты знаешь, английский философ Томас Гоббс утверждал, что все люди равны, потому что каждый может убить другого. Ну например из огнестрельного оружия, которое всех уравнивает. Ведь пойми, это не просто оскорбление моего ума (я и так в нем всегда сомневаюсь), это выражение общего неравенства в нашем обществе. Я хотела бы ответить на его вызов, чтобы облегчить свою душу и одновременно подорвать тиранию мужчин и дворян в нашем государстве. А как я могу ответить, не прибегая к насилию? Может отравить его? (спохватывается) Ну хорошо, я не буду его убивать, это не по-христиански Но я могу украсть у моей подруги Оленьки (она с ним спит) его фотокарточки в голом виде! Размножить и разослать их всем – это будет его гражданское убийство.
Лева:
Но ведь ты понимаешь, как это опасно! Даже фотокарточки. Тебя поймают и отомстят еще больше. И так бывает всегда. Есть даже такое понятие, «порочный круг насилия». В свое время – и об этом как раз пишет Гоббс — такого рода насильственная зараза втягивала в себя все общество, начинались войны, революции, и поэтому была установлена «монополия государства на насилие». Только городовой, жандарм имеют право применять насилие, ну или палач по решению государственного суда.
Вера:
Но ведь от того, что насилие применяет государство, насилие не исчезает. Наоборот, если раньше оно считалось чем-то вредным, теперь государство утверждает его в качестве ценности и подает дурной пример остальным! Кроме того, в нашем государстве (и во всех, которые я знаю) есть неравенство, и точка зрения дворян, капиталистов, в целом мужчин, скорее всего возобладает в суде. А жандармы гораздо чаще бьют бедных, чем богатых. Если я применю к Петру насилие, то не буду притворяться, что делаю нечто хорошее. Это будет именно плохой поступок, я буду его скрывать, а если поймают, извинюсь, покаюсь. Но плохой этот поступок послужит свидетельством, обнажит насильственную структуру нашего общества. [1]
Лева:
Ну положим, женщин жандармы обычно не бьют. А когда бьют, это становится общественным скандалом, как тут недавно. Это тогда уже не просто насилие, а насилие демонстративное, преступное — ровно такое же, какое собираешься совершить ты. Но согласен, доказать вину частного влиятельного лица тебе будет непросто.
Вера:
Демонстративное насилие, например публичные казни, некоторые называют «террором». Но это неточно – террор был защитным насилием, оружием французской республики против реакции. Это была демонстрация, при помощи насилия, недопустимости насилия. А вот государственный «терроризм», или скажем, терроризм радикальных группировок правого толка, это другого рода демонстрация. Здесь ужас перед деянием призван внушить священный ужас перед властью: она мол по ту сторону добра и зла, как Бог, коли может сотворить такое.
Лева:
Ой, не уверен, что это тонкое различие существенно для жертв… Хотелось бы их все-таки минимизировать, смертную казнь отменить и револьверы простонародью, ты меня извини, не продавать.
И потом, возможно террор, терроризм, как хочешь его назови, то есть революционное насилие, и не нужны вовсе. Посмотри, если безоружный народ встанет и пойдет миллионами на жандармов, зачем им оружие? Моральная сила этого народа будет такова, что те, кто мог бы применить насилие, просто постесняются пустить его в ход. Или вот скажем, забастовка – это насилие или нет? Вроде эффект может быть для тиранов разрушительный, а физического насилия никто не применяет.[2]
Вера:
Нормальный ты, Лева, писатель-моралист! Ну прокатит у тебя это «ненасильственное сопротивление» один раз, ну другой. А потом сатрапы наши увидят, что это разводка. Что их провоцируют и шантажируют: начнете стрелять, будет стыдно, а сами в это время берут власть и меняют режим. Нет, такой самообман нас ни к чему не приведет. На насилие властей надо отвечать насилием, не бояться бить, убивать насильников, пускай сначала поодиночке.
Лева:
Звучит пугающе. Давай сбавим обороты и вернемся к твоему случаю с Петром. Положим, ты добилась своей цели и взяла правосудие в свои руки, в обход полиции. Петр мертв, или унижен, отчислен из института и слег с депрессией. Тебя не поймали, и порочный круг насилия не запущен. Допустим. Но насколько тебе удалось при этом поразить зло и поднять себе добродетель и настроение? Насколько выиграло от этого дело униженных и оскорбленных?
Древнегреческий философ Платон, в диалогах наподобие нашего, спорил с теми своими современниками, кто проповедовал власть силы в обществе. Только кажется, что насилие – относительная величина, говорил его герой-златоуст Сократ. В нем всегда есть и нечто абсолютное, некое зло как таковое, неважно, кто именно его испытал. То есть сделанное тобой зло отскочит и даст обратно по тебе. Как писал мой коллега Андрей, ты будешь бить и чувствовать боль от своих же ударов. Кайся ты, не кайся, на исповедь ходи – не поможет: ты будешь в ссоре с самой собой, у тебя что-нибудь вдруг заболит, не в душе так в теле.
Подобные же проблемы возникают и в обществе – если, скажем, твои «проклятьем заклейменные», damnés понимаешь de la terre, начинают биться за власть при помощи террора. Наша общая знакомая, эта удивительная еврейка Ханна, говорит, что насилие противоположно политической власти. Власть объединяет, а насилие всегда разобщает, является делом одиночек, схлопывает публичную сферу. Вроде убиваешь ты одного, двух, десятерых, а символический эффект совсем другой: как обухом насилие бьет по простым людям, пришибает их страхом, заставляет молчать, не доверять себе подобным.[3]
Вера:
Твои Платон и Ханна — плоские ханжи, без какого-либо реального эмоционального опыта. Каждый по себе знает, что насилие имеет совсем другой эффект. Оно опьяняет и окрыляет: ведь совершивший его как бы переступает черту свободы. Согласна с тобой, в этом опасность насилия. Но говорить о том, что оно якобы только прибивает, неверно. Насилие и вообще зло – сложный феномен, в нем отрицание как бы повторяется дважды и применяется к себе: есть момент освобождения и тут же с ним момент подавления. Вот если бы высвободить зло от зла зла!
Лева:
Не залазь во зло, Вера. Ты чувствуешь, что неправа, вот и заговариваешься, впадаешь в заумь. Вот, выпей, проводник принес чаю с лимоном и сахаром. Он не отравленный, надеюсь.
Вера:
Спасибо. Сладко. Сладко как насилие (иронично улыбается и оглядывается, что никто не слышит).
А возьми еще окружающую нас культуру и цивилизацию. Газеты, романы, спектакли. Ведь там все о насилии. Вот ты пишешь романы, ты написал уже хоть один, где никого не убили? Нет пока? Ну так сочини один на досуге, ненасильственный ты наш, но читать его не будут. Насилие изображается не для того, чтобы люди от него отвернулись, а от того, что оно кисло-сладко, оно attraction, оно приковывает внимание. В романах оно дается дозированно, кидается бедным рабам, чтобы они утерлись. Но глядишь, прочтет парень «Бесов» и вместо катарсиса возьмет ружье и пойдет вслепую палить по однокурсникам.
Лева:
Touché, милая. Да, сам я грешен, играю на этой клавише, да. Но ведь эвон куда ты зашла, от праведной мести до упоения в бою…
Наверное, доля насилия нужна не только для освобождения, но чтобы сделать мои слова выразительнее, произвести впечатление, повести за собой читателя.
Вера:
Так и я вот мечтаю, сильными поступками своими увлечь народ и свергнуть тирана!
Лева:
Силой, не насилием!
Вера:
Да, силой это точнее. Насилие лишь ее выражение, согласна, не самое прочное, но самое эффектное.
Нам надо уже прощаться – уже объявили, что подъезжаем, показались Ижоры. Но вот немного времени еще есть, и мне – всегда это бывает под конец – пришло вот такое решение в голову. Может быть, нас само слово «насилие», “violence”, путает? И Ханна твоя права, что слово это не политическое, хотя сам феномен-то политический еще как. По-немецки, как я узнала недавно, насилие будет Gewalt, и то же слово используется для правительственной власти. Можно ли вообще отделить насилие от силы и власти? Ведь любая власть, даже вот твоя как автора и властителя дум, сопряжена с насилием, хоть бы и воображаемым. Насилие того, кто могуч и имеет право (pace Федор Михайлович Достоевский) – это проявление его власти, за которой стоят воля и ум. Насилие же «в чистом виде», как терроризм властей или мелочная месть, это по сути дела бессилие, поза нападения, принятая от страха (не случайно «террор» означает и страх, и устрашение, хотя повторюсь, Робеспьера и Занда я бы здесь вывела из числа «террористов»).
Поэтому, я думаю, я все-таки вывешу фотокарточки Петра на стенке университета, а убивать его пока не буду, хотя бы пока не залучу побольше соратников и не напишу книгу о прекрасной России будущего. Ты ведь мне поможешь, Лева?
Лева:
Ты страшная женщина, Вера. Сам твой прекрасный взгляд содержит в себе violence – ведь под этим словом французы понимают не столько тупую боль, сколько ярость и яркость. Конечно, я помогу тебе.
[1] От автора: Вера тут предвосхищает антигосударственную философию 20 века, в частности Вальтера Беньямина и Джорджо Агамбена.
[2] От автора: Лева предлагает здесь что-то вроде тактики Мокандаса Ганди или Джина Шарпа, а также предвосхищает аргументы Жоржа Сореля, который считал, что забастовка – это тоже насилие, а до крайностей вроде массового террора революционерам доходить вовсе не обязательно.
[3] От автора: Лева здесь допускает кучу анахронизмов и ссылается на писателя Андрея Платонова, психолога Франца Фанона и философа Ханну Арендт