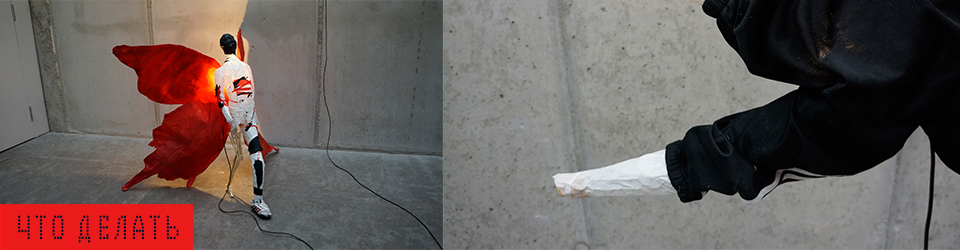Ксения три дня отлежала на гробе,
Встала сильнее урана.
Елена Фанайлова
I
Около года назад произошло событие, заставившее меня по-новому посмотреть на некоторые вещи в себе и окрест. Михаил Юдсон и покойный Александр Гольдштейн прислали мне в рамках проекта «Взгляд свободного художника» ряд вопросов на предмет современной поэзии (и прозы тоже)[1]. В завершение они просили назвать «наиболее интересных вам в последние годы пишущих людей». Ничтоже сумняшеся я назвал Кирилла Медведева, Аркадия Драгомощенко, Дмитрия Голынко-Вольфсона, Василия Ломакина и Леонида Шваба, резонно решив, что мои недавние предисловия к книжкам Сергея Завьялова и Шамшада Абдуллаева говорят сами за себя. Отослав ответы по электронной почте, я спохватился. Почему я не назвал ни одной женщины? Это я-то, переводивший Сьюзен Хау, Эйлин Майлз, Кэти Акер, Гертруду Стайн, считающий одним из главных текстов XX века «Боль» Маргерит Дюрас? Я, влюбленный в поэзию Елены Шварц и Елизаветы Мнацакановой, одну из первых своих рецензий посвятивший Ольге Седаковой и обеими руками голосовавший за вручение премии Андрея Белого в 1999-ом Елене Фанайловой? Это «почему», подразумевающее вполне недвусмысленный – в свете феминистских теорий – ответ, тем более болезненный, что в принципе я согласен с их (теорий) основополагающим тезисом о мужском доминировании и подчиненном положении женщин, потянуло за собой другие, не столь очевидные[2].
Например, почему при слове «художница» никто не хватается за пистолет, тогда как «поэтесса» звучит с явно уничижительным оттенком? Откуда, как давно возникла эта асимметрия между словоупотреблением в современной поэзии (и литературной критике) и contemporaryart, где считается нормой говорить о «женском взгляде», «женском письме», вообще о «женском» в его отличии от «мужского»? Почему я и, наверное, не я один, спотыкаюсь, прибегая, когда необходимо обобщить, к кавычкам и/или неуклюжим конструкциям? Почему по-английски выражение womenpoetsили womenwritingне режет слух, а их русские кальки воспринимаются как в лучшем случае эвфемизм? Как вообще маркируется пол/род в нашем языке и какой гендер за этим, пардон, стоит? Почему сами же женщины первые протестуют против идентификации их как женщин (поэтесс)? Почему Анна Глазова и Ника Скандиака прибегают к модальностям, не позволяющим однозначно определить пол пишущей/пишущего? Почему у Анны Горенко, Александры Петровой, Евгении Лавут, Марианны Гейде и многих других субъект высказывания, лирическое «я» (не путать с персонажным «я» баллад Марии Степановой, хотя сам факт использования ею брутальной мужской речевой маски тоже наводит на размышления) с подозрительной частотой выступает в мужском обличье, как в характерном, парадигматическом для 1990-х стихотворении Горенко «Тело за мною ходило тело»:
Тело за мною ходило тело
Ело маковый мед
А теперь довольно, мне надоело
Я во власти других забот
Я в зубах сжимаю алую нить
К ней привязаны небеса
Я всё выше, выше желаю плыть
Я хочу оставаться сам
Гильотина света над головою
И мне дела нету до нас с тобою
Пусть они в разлуке, в беде навеки
Я сегодня сам и мосты и реки
Я огонь и трубы, вода и мыло
Я что хочешь, лишь бы тебе польстило
Я Ариадна скалою у грота
В зубах нитка, во рту монетка
Я себе Ариадна, Тесей и Лота
Я голубка, детка
Я пока еще не готов подробно разбирать эту сейсмическую скоропись, хотя она, безусловно, того заслуживает, как, впрочем, и все блистательное творчество Горенко, травестирующее, радикально подвешивающее самотождественность субъекта, включая и сам ее «ахматовский» (или скорее «контр-ахматовский») псевдоним, семантику которого интересно комментирует в предисловии к сборнику «Праздник неспелого хлеба» Данила Давыдов[3]. Поэтому я сразу перехожу к следующему вопросу: не завязана ли эта травестия, вплоть до мазохистского умаления в безличной конструкции – «Я что хочешь, лишь бы тебе польстило», – на имплицитного адресата, то «ты» в «тебе», к которому обращена и от которого отскакивает, как от диалогической стенки, речь? Ведь любая поэтика, сколь угодно радикальная, упирается в разрешающую способность именно этого «ты», пресловутого провиденциального собеседника, местоблюстителя столь необходимого голосу, дабы быть услышанным, резонанса. (И вообще, как быть, если «субъект» оказывается женского рода, равно как и «автор», и «человек»? Не есть ли это, говоря формально, грамматический оксюморон, некое фантомное, фиктивное языковое тело, которое потому и ходит, и ходит за «тобой», наподобие призрака? И что меняет в этом «призрачном», «бесполом» статусе возможное возражение, что, допустим, все это стихотворение целиком – косвенная, а не прямая речь, речь «от лица» «мужчины», которой, стало быть, требуются кавычки?) Не отсюда ли трагическое напряжение лучших вещей Горенко, перекусывающих нить грамматики и синтаксиса и срывающихся в пароксизм, в обсценную тавромахию?
Я стал как мебель бледный деревянный
Безвенный и невинный. Мир ебаный
Со всех сторон стоит ко мне спиной
Меня глотает воздух неживой <…>
Или, в еще более откровенной эскападе, возвращающей мне все выше сформулированные вопросы в виде раскромсанных ошметков:
<…> а тело из белого стало бледным
появилось желание объясниться
видите ли феминистки меня не любят
только бы если не стать феминисткой!
капустницы в холодце подмытые марганцовкой
клацают акульей пиздой
Мама
Мама
только бы не стать феминисткой!
Мама не стать нацменьшинством фашистом
пасторской самкой взрослой женщиной турком
лучше пожарником мертвым ребенком
постмодернистом
только не старостой не багрицким не партизаном
Мама
мои друзья партизаны в застенке <…>
Опять же, я не могу препарировать этот абортарий социокультурных ролей и идентификаций, чья пуповина уводит к проблематичному статусу говорящей/пишущей – похоже, и впрямь из некоего «застенка». Но имеющие глаза самостоятельно доберутся до сакраментальной строчки, которую, в силу ее силы (но эта слабая сила, не правда ли?), я хотел бы выделить особо и даже, пожалуй, взять эпиграфом ко второй части.
II
что до жизни то оказалась женской
Анна Горенко
В статье «Прорыв к невозможной связи. Поколение 90-х в русской поэзии: возникновение новых канонов»[4] Илья Кукулин первым, кажется, обратил внимание на конститутивный для поэзии этого поколения феномен, который он назвал «продуцированием фиктивных эротических тел авторства»:
Эти тела являются своего рода посредниками, которые связывают авторское сознание с миром; и в то же время это действующие лица, которые разыгрывают символические драмы, выражающие некоторые общие свойства мира. Авторское сознание, или точнее, авторский порыв, который охватывает всё существо пишущего (в терминологии “Разговора о Данте” Мандельштама), летит за этими призрачными телами – они осуществляют творчество как бы впереди него. Эти тела отчуждены от авторского сознания и могут быть рассмотрены несколько со стороны, как чужие люди, или как играющие дети, или персонажи сна, или куклы. В то же время они неразрывно, кровью, связаны с авторским сознанием; авторское сознание обращает к ним и через них к явлениям мира любовь и привязанность, но это привязанность не восторженно-романтическая, а привязанность сродни отношениям взрослых людей, у каждого из которых свои проблемы. Она может реализовываться именно через эти полуфантомные образы.
Эти тела можно условно назвать фиктивными эротическими телами авторства. Их порождение было, очевидно, свойственно и поэзии предшествующих эпох, но в 90-х взаимодействие с ними и драматизация этого взаимодействия стали важным, наглядным и часто осознанным творческим методом. [курсив мой. – А. С.]
В стихотворениях авторов 90-х тела фиктивные эротические тела то и дело подвергаются физическим страданиям: они испытывают боль, ощутимые затруднения, их калечат, бьют, ломают. Эти страдания можно рассматривать как символическое жертвоприношение. Их боль, деформации и исчезновения соответствуют чужой боли, отчуждённо и одиноко существующей в мире. Символическое принесение этих тел в жертву и сопереживание их боли позволяет восстановить открытые отношения с миром.
Отставим на время в сторону концепт «фиктивного эротического тела» и то, насколько символическое принесение этих «тел» в жертву способно «восстановить открытые отношения с миром», и посмотрим, каких авторов имеет в виду Илья Кукулин в 2001 году? Это – в порядке, который я воспроизвожу здесь не без некоторого смущения – Дмитрий Соколов, Евгения Лавут, Александр Скидан, Александр Анашевич и Дмитрий Воденников: «По-видимому, в стихотворениях процитированных выше авторов – таких, как Дмитрий Соколов, Евгения Лавут, Александр Скидан, Александр Анашевич (а также некоторых других – Дмитрий Воденников, например) авторское сознание проецируется как бы в одно или несколько новых фиктивных тел. Эти тела являются своего рода посредниками…» и далее по тексту. Вот образцово иллюстрирующее положение о «фиктивном теле» стихотворение Евгении Лавут, которое приводит критик:
То ли девочка я то ли мальчик – Бог весть
Если он есть, а нет – никому не вемо
Шприцем сухим вверх в голубое как вена
небо тычется церковь. Утро – какая месть
ночью не спавшему! Будто бы: волчья сыть,
что спотыкаешься, хочет спросить, сука!
Господи, я тоже хочу спросить
пока троллейбус ползет как седая муха
через Яузский мост – намазанный маслом тост –
ответь: Девочка я или мальчик, или я оба,
или я камушек, или я птица клест?..
троллейбус вязнет, холодная кровь Бога
течет, не достигая земли; жесть
парализованных крыш плавится, ждет удара.
Сегодня, в 2006 году, к списку, предложенному Ильей Куклиным, необходимо добавить, как минимум, Дмитрия Голынко-Вольфсона[5], Данилу Давыдова[6], Шиша Брянского[7], а также упоминавшихся выше Александру Петрову, Елену Фанайлову, Анну Глазову, Нику Скандиаку, Марианну Гейде (перечень далеко не полон). И, конечно же, Анну Горенко и Марию Степанову, чья «Физиология и малая история» (2005) целиком посвящена колонизации и переосмыслению («женского») тела по канве «мужской» поэтической традиции. Любопытно, что в цикле «Несколько положений (Стихи на подкладке)» я нахожу у Степановой сходный с (эпиграфом из) Горенко, демонстративный жест выворачивания наизнанку «мужской» дикции: «Я так одна. Никто не поднимает…». Строка эта выделена в книге курсивом, поскольку отсылает к русским стихам Рильке с их «трогательными» аграмматизмами, вроде «мой сердце», «избушка уж привык» и другими отклонениями от нормативной языковой логики. Вот это стихотворение Райнера Марии Рильке, позволяющее реконструировать матрицу языковой стратегии Марии Степановой (стратегии, выходящей за хронологические границы «Физиологии и малой истории», но четче всего сформулированной именно там: «Я список кораблейперевела на морзе»):
Я так один. Никто не понимает
молчанье: голос моих длинных дней
и ветра нет, который открывает
большие небеса моих очей.
Перед окном огромный день чужой
край города; какой-нибудь большой
лежит и ждет. Думаю: это я?
Чего я жду? и где моя душа?[8]
Как понимать эту перекрестную гиперссылку в творчестве Марии Степановой, берущую под прицел не просто идиому того или иного поэта, но «мужскую» идиому в ее детской непосредственности, чтобы не сказать типичности? Как истолковать явно «бродские» интонации и мотивы в стихотворении Евгении Лавут «То ли девочка я то ли мальчик…» (но также и в других, не столь откровенных)? Наконец, что артикулирует, сочленяет через вывих и перифразу того же Бродского строка Анны Горенко что до жизни то оказалась женской? – Если предположить, вслед за Ильей Кукулиным, что эротические языковые стратегии и «тела» не только «отчуждены от авторского сознания и могут быть рассмотрены несколько со стороны, как чужие люди, или как играющие дети, или персонажи сна, или куклы», но что одновременно они «неразрывно, кровью, связаны с авторским сознанием»?
Здесь возможно несколько плодотворных подходов. Но прежде чем их обозначить, необходимо коснуться проблемы «поколения 90-х». Илья Кукулин справедливо замечает, что порождение «фиктивных эротических тел авторства» было свойственно и другим эпохам, в том числе, добавлю, ближайшим к нам. Здесь следует назвать, в первую очередь, Эдуарда Лимонова эпохи «Эдички» (в данном контексте особенно важны гротескные языковые аномалии в стихах 1960-70-х), Елену Шварц и Александра Миронова, главным образом программный цикл последнего «Осень андрогина» (1978) с его замыканием языка (поэзии) на фигуру телесного (однополого) соития:
– Кто вы, – спросит, – двойная скверна?
Мы ответим Ему: наверно,
Мы – Ничто, словесная сперма:
Роза и сыпь сирени.
Он же скажет нам: Звери знают –
Так букеты не составляют <…>
Одна из постоянных тем Александра Миронова – «смесительная связь» поэтической традиции и индивидуального языка, который в одном из стихотворений он называет «медиумическим духом травести». Связь, разоблачительно сопрягающая, не без гностических коннотаций, оба (телесное и лингвистическое) значения слова «язык» или «письмо» (в традиционном смысле послания и в смысле «Нулевой степени письма» Ролана Барта):
Какое длинное письмо
растет себе само!
Как бы из чресел эскимо –
попробуешь – дерьмо.
<…>
Апофатический намек,
хрящ мировых мощей,
соль бытия, письма предлог
и поясничный змей –
как ни зови – авторитет,
желанье, божество,
само дыхание… О, нет! –
условие его –
нет имени: пятно, пятно
на бледном полотне.
Творение растворено
в смесительном огне.
(«Писать, закрыть глаза, писать», 1981-1982)
Есть у Миронова и предельно «жесткие» верлибры (цикл «Кинематограф» середины 1980-х), предвосхищающие стратегии очень и очень разных авторов, среди которых я бы назвал Дмитрия Волчека, Сергея Круглова и Ярослава Могутина, а также «белый» шум сетевой поэзии, отчасти и вынудивший, видимо, некоторых из этих сильных и самобытных поэтов замолчать или сменить (эстетическую) ориентацию:
педерастическая склонность эйзенштейновского топора
в последний раз
прильнуть казенным поцелуем к шее казнимого
в последний раз
облобызать и растлить обреченное на уничтожение
последний раз
всем колхозом напялить на себя ризничные одежды
все равно ведь пленку потом сожгут
в приступе ностальгии
останется Черкасов с неизменным солопом в деснице
взбесившаяся коляска с ребенком
пролетарский Апис эмигрировавший в «мир Феллини»
музыка Прокофьева слова Луговского
Соединение «казенного поцелуя» и «казни» заставляет вспомнить поэта более отдаленной эпохи, также малоизвестного, но крайне важного в контексте нашего разговора, а именно Андрея Николева (Егунова), превратившего языковое шутовство и травестию в метод «вскрытия и уловления метафизики, таящейся в недрах языка».[9] Его фрагментарная, исполненная сарказма, иронии, полисемии и двусмысленными гомоэротическими фигурами поэзия звучит остро современно:
Жать рожь, жать руку. Жну и жму
язык, как жалкую жену –
простоволосая вульгарна
и с каждым шествует попарно,
отвисли до земли сосцы,
их лижут псицы и песцы…
– Воспоминанье о земле,
о том, как там в постель ложатся,
чтоб приблизительно прижаться.
(1933)
Этот беглый по необходимости экскурс в «андрогинную» по преимуществу поэзию (тут стоит, конечно же, вспомнить и Михаила Кузмина, и – противоположный случай – развоплощающие любую субъективность, проникнутые отчаянием и мисогинией тексты обэриутов), тематизирующую родовые признаки «фиктивных тел авторства», подводит меня к выводу, что в 90-е произошел некий скачок, количество, так сказать, перешло в качество. (Как в гегелевской диалектике господина и раба, где именно раб, через принудительный труд и отчуждение, творит, в конечном счете, историю.)[10] Скачок, отчасти совпавший, а отчасти вызванный социально-культурной трансформацией конца 1980-х – начала 1990-х годов и выдвинувший целый ряд поэтов-«женщин», в творчестве которых с небывалой доселе силой и остротой звучит традиционно «мужская» проблематика самотождественности субъекта. Сказанное отнюдь не означает, разумеется, что в 90-е не появилось значительных поэтов-«мужчин». И тем не менее, такое ощущение, что к «голосам» этих поэтов – Станислава Львовского, Александра Анашевича, Михаила Гронаса, Григория Дашевского, тех же Дмитрия Воденникова и Василия Ломакина – примешивается что-то неуловимо «женское». И наоборот, у Александры Петровой, Анны Горенко, Елены Фанайловой, Марии Степановой, Евгении Лавут, Анны Глазовой, Ники Скандиаки, Марианны Гейде, Натальи Курчатовой и многих других отчетливо прослушивается «неженский», мягко говоря, тембр. (Я сознательно заключаю в скобки продолжающих активно работать Ольгу Седакову, Елену Шварц, Елизавету Мнацаканову, Татьяну Щербину и других поэтов-«женщин» старшего поколения, поскольку их поэтика сложилась в основном другую историческую эпоху и требует отдельного рассмотрения.)
III
какое тело женское
ужасно не введенское
Александр Введенский
Так как же все-таки трактовать этот «мужской» субстрат в «женской» поэзии? Да никак, скажет иное «фиктивное тело авторства». И будет, в каком-то смысле, право. «Нет никакой “женщины”, никакой истины в себе относительно женщины в себе… нет никакой истины в себе относительно полового различия в себе, мужчины или женщины в себе» (Жак Деррида). Есть письмо, текст; пишущий по природе (письма) двупол, андрогинен, так или иначе «фиктивен». И тем не менее, там же, в «Шпорах: стилях Ницше» (а в текстах Ницше множество стилей, не меньше чем матерей, дочерей, сестер, старых дев, жен, гувернанток, проституток, девственниц, бабушек, девиц маленьких и больших, мифологических и немифологических Ариадн, Менад, Лу, Саломей, Козим, и каждую найдется чем пришпорить или получить ответный удар отточенным стилетом или стилом), Деррида уточняет: «Тем не менее, всякая онтология [и поэтика в смысле отрасли знания, дисциплины, добавим мы. – А.С.] предполагает и скрывает эту неразрешимость; она есть эффект каталогизации <arraissonnement: «досмотр судна»>,присвоения, отождествления и верификации тождества этой неразрешимости».[11] Отсюда и режим кавычек, сопровождающий здесь и сейчас, в этом тексте, «женщину» и «мужчину». Режим, насильственно отменить который способна разве что идентификация и присвоение стоящего за подписью, скажем, «Анны Горенко» эмпирического тела «Анна Карпа» (1972-1999) с его земной биографией. Это один путь, путь, условно говоря, историко-биографической поэтики и школьных учебников. Другой, не менее плодотворный и богатый на открытия, будет заключаться в «диалогическом», интертекстуальном методе. Так, в стихотворении «Тело за мною ходило тело» мы оперативно вычленим отсылки к Мандельштаму, сразу к нескольким его ранним (эпохи «Камня») вещам. Сгруппируем эти аллюзии вокруг «Дано мне тело – что мне делать с ним?», разворошим все гнездо «детского локуса», столь актуального для тематизируюющей «телесность» поэзии 90-х; и полакомимся игрушечными волками, детскими книжками, целомудренными чарами хрупких подростковых тел, звериной душой, снежным ульем и возвращающимся в доисторическое лоно – Афродиты ли, морской пены или музыки – Словом. Тут недалеко и до грота Ариадны, отдирающей от скалы и преподносящей Тесею букетик кал. Что делает здесь Лота, я, право, не знаю, надо бы спросить Минотавра.
Третий – поход в духе «страха влияния» Гарольда Блума в поисках за утраченным, а на деле запрятанным глубоко в ткань текста «сильным предшественником», причем запрятанным настолько надежно, что смятые складки и простыни (мандельштамовский интертекст) могут обернуться всего лишь ловушкой, в которую обязательно попадется наивный читатель. «Наивный» в данном случае значит несведущий в теории Блума, который выделил и описал шесть стратегий такого хитроумного укрывания отцовской (всегда почему-то отцовской) фигуры[12], направленных на то, чтобы переиграть сильного, канонического предшественника на его же поле, но своим, выкованным в соперничестве оружием. Это сложный, прямо-таки обезнадеживающий путь, особенно если представить, сколько ж уловок и обманных ходов надо держать в голове, помимо начетнического знания классического корпуса текстов. Здесь-то нам и может понадобиться тень Бродского, промелькнувшая в жизни что оказалась женской. Это длинная тень, аккумулирующая в себе не только колоссальный символический капитал, но и способная в одиночку представительствовать за символический порядок, царящий в нашем недатском королевстве.[13] Не странно ли, что в отличие от старших и младших коллег, нередко интонационно и риторически попадающих в резонанс с певцом Урании (и не скрывающих этого), у Горенко это – едва ли не единственное громкое оспаривание (универсальности) Бродского?
Четвертый подход – но четвертому не бывать, потому что он… феминистский, а феминистки, по словам Анны Горенко, «клацают акульей пиздой», то есть, если я еще не разучился читать, оскопляют почище иных фаллоцентриков и логоцентристов. Понимаю и даже отчасти чувствую тот же – знакомый всем пишущим – страх, уже отнюдь не влияния. Испытывают его, очевидно, и критики-комментаторы творчества Горенко (Сошкин, Тарасов, Давыдов). Они много – и справедливо – уделяют внимания претекстам Горенко, пишут о ее «визионерстве», «мистическом опыте», «маргинальности», «наркотической оптике», экстерриториальности и биографических обстоятельствах, даже «андрогинности» и «экспериментах» с грамматическим родом, но при этом настойчиво отводят взгляд от полового различия, структурирующего на уровне фигурации и модальностей высказывания все ее тексты. Как? Ставя это различие под знак иной, более существенной, с их точки зрения, проблематики, подчиняя его иной логике, логике тождества. Единственное исключение – пассаж Данилы Давыдова, красноречиво изобилующий разного рода оговорками: «90-е годы минувшего века выдвинули целый ряд поэтов, для которых общим свойством их весьма различных поэтик оказывается совмещение инфантильных и некротических мотивов. И центральную роль в этом весьма условно выделяемом движении играют, так сказать, “молодые разгневанные женщины” (назову имена Ирины Шостаковской, Анастасии Трубачевой, Галины Зелениной, Алины Витухновской, Елены Костылевой, Натальи Ключаровой…). Гендерные характеристики подобной ситуации, хотя и четко прослеживаются, не сводятся, как я подозреваю, к какой-либо одной причине, но, напротив, являются удивительным сочетанием ряда не связанных между собой факторов (впрочем, это отдельный разговор)»[14].
Меня интересует не оскопление, эта всегда плоская истина, а скорее (само)ослепление текста как его (текста) конститутивный эффект. Остаются еще пятый (более или менее формально-структуралистский), шестой (более или менее герменевтический) и седьмой (смешанный, включающий в себя психоаналитический) способы истолкования.
Но что если «фиктивное эротическое тело авторства» продуцируется не в расчете на истолкования и подходы, и даже не с целью быть прочитанным (понятым)? Что если Илья Кукулин прав, и ставки здесь куда серьезнее, а именно, несобственно-прямая речь идет о символическом жертвоприношении, любви и, сказать ли, смерти? А эти «вещи», в свою очередь, не вещи в себе, они пронизаны другими голосами, голосами других, и разомкнуты прямо на меня в своей глоссолалии, окликают одно из моих «я» и требуют от него незамедлительного, невозможного, соматического и безрассудного отклика, признания в любви, например?И тогда, быть может, пока одно мое фиктивное тело освидетельствует и верифицирует эмпирическое тело «Анна Карпа», окоченевшее от передозы и закопанное, а может быть развеянное без остатка и ушедшее в семитскую сому-сему или средиземноморскую пену, другое мое «я» причащается этим горестным прахом, берет его в рот и само становится, благодаря этому непорочному зачатию, другим. Третьим. Возможно, телом с сигнатурой «Елена Фанайлова», которая окликает, на моей губе, моей идиоме, частичка которой, подобно тайному коду, переходит от нее ко мне и обратно, будто я сам окликает и откликается Анне Горенко:
Девочка девочка где ты была
Когда стреляли из-за угла
Когда не бывало воды и угля
Во дни хлеба, воды
В огне как морозом топили золу
Когда ты меня зажгла
Когда в середине точнее к концу
Этаго страннаго кина
Киномеханик приблизит к лицу
Тряпку с бензином – а где ты была?
Спали ли ты что ли обратно спала
И с кем разговаривала как свеча
Почему ты пришла ко мне как стукач
Потихоньку придерживая вранье
Повернулася спиной как луна
И разделася медленно как у врача
Обо всем запальчиво говоря,
Сердце моё?
Что ты дуешь мне в ухо из-за плеча
Для чего подсматриваешь в черновик
Почему диктуешь своё, бубня
Будто я и сам неспособен скучать
Как неверная воля и как мечта
Уходящая из-под руки
(«Русская версия»)
IV
Я, свернувшееся в кулак.
Тела спяща ночной ГУЛАГ.
Мария Степанова
Отвечая на анкету «Десять лет без Бродского»[15] я на скорую руку высказал следующее соображение: «Если же говорить о совсем последнем периоде, то почему-то мне кажется, что Бродский сильнее прослушивается в нашей женской поэзии, которая вообще, безотносительно Бродского, становится передовой поэзии, ее режущей кромкой (возможно, потому что женщины себе больше могут позволить, они смелее мужчин; или на них не так давит груз традиции, все же эта традиция сформирована почти исключительно мужчинами? а может, потому что они изначально находятся в слабой позиции, обусловленной нашей шовинистской культурой, самой шовинистской культурой в Европе, и эта слабость революционизирует их бессознательное? интересный вопрос…)». Если это еще вопрос. Ниже я попробую еще раз развить и уточнить эти интуиции, но сначала надо, видимо, ответить за «шовинизм».
Иногда помогает взгляд со стороны. Вот что пишет одна из составительниц антологии современной русской поэзии «CrossingCenturies: TheNewGenerationinRussianPoetry» Лора Д. Уикс: «Большая часть русских женщин-поэтов сопротивляются идентификации себя как женщин. Да, в России существует активное, ярко выраженное феминистское движение, у которого долгая традиция. Да, гендерно окрашенной лирики становится все больше и больше. Однако большинство женщин-поэтов избегают вступать в этот заколдованный круг из страха, что их женскость будет отвергнута как “женственность”, а их поэзия будет сведена к “женскому опыту”. Они бы с куда большей охотой предпочли быть поэтами без рода, работающими в области универсального опыта. Достичь этого высокого статуса означает преодолеть определенные барьеры, как, например, тот факт, что распространение поэзии – в частном, равно как и в публичном пространстве – контролируют по большей части мужчины. Кроме того, существует и барьер в виде самого языка. Русский язык несет в себе грамматические признаки – в прошедшем времени глаголов и во всех прилагательных, – которые автоматически указывают род говорящего как мужской либо женский. В результате история голосов русских женщин всегда была в некотором смысле игрой: использовать доступные им маски-вуали как серию уловок, достаточно отвлекающих мужской взгляд, чтобы успеть передать послание и убедиться, что их поэзия привлечет серьезное внимание»[16]. Выводы Уикс косвенным образом подтверждает высокий статус гомосексуальной литературы, с одной стороны, и мужские псевдонимы многих поэтесс Серебряного века, равно как и сами их судьбы (кто сейчас, кроме узких специалистов, читает Парнок, Хабиас, Радлову или Гиппиус?).
Итак, гипотеза первая: «нерв» современной русской поэзии переместился в «женскую» поэзию, поэзию «женщин». Это блуждающий нерв, и его локализация, по-видимому, связана не только с формальными инновациями внутри самого поля поэзии, но и со сложной динамикой сопредельных ей областей, всего общества в целом. Еще в конце 1990-х я связывал перспективы развития русской поэзии с различными модификациями нерифмованного нерегулярного стиха, ориентированного на широкий интернациональный контекст (не только поэтический, учитывающий опыт музыкального и кино-авангарда, видео и других искусств). При этом особой дискриминации по «рифменному признаку», кажется, не проводил, более того, и сам не без удовольствия прибегал к «смешанной технике». И все же актуальной представлялась мне практика поэтов, исповедующих резко выраженную модернистскую установку («модернистскую» в широком смысле, нацеленную на «модернизацию», поиск новых способов высказывания), то есть так или иначе порывающих с господствующей в нашем ареале просодией (песенно-мелодической разверткой стиха)[17] и, следовательно, базовыми для данной (стиховой) культуры ценностями. Поэты эти, как нетрудно догадаться, за редким исключением были мужчинами.
Когда произошел перелом? Трудно сказать. Но, забегая вперед, на соседнюю территорию, напрашивается мысль, что проект политико-экономической «модернизации», стоявшей на повестке дня с конца 1980-х и параллельной «модернизации» культурной, в общем и целом провалился.[18] Геополитическая трещина, отделявшая Россию от Западного мира, никуда не делась, более того, вновь сделалась драматически ощутимой, что привело к резкой реактуализации классического набора специфических российских проблем, кем только не воспетых (от Радищева до Чаадаева, от Герцена до Киреевского). Как по-солдатски – вернее, как солдатка – откровенно пишет мне в письме Елена Фанайлова: «русские еще очень долго будут в просодической метрике, потому что антропос чудовищно дикий, агрессивный, компания убийц. Поэтому русские любят петь в компаниях. Поскольку поэзия решает прежде всего антропологические задачи, это мое убеждение, мы и обречены не на верлибр, а на песни в формальном размере». Именно этим, похоже, обусловлен тот факт, что радикальные – в своем отрыве от национально-имперского локуса – поэтики таких авторов, как Айги, Драгомощенко, Шамшад Абдуллаев (и всей «Ферганской школы», включая Ольгу Гребенникову, блеснувшую в середине 1990-х десятком первоклассных верлибров), так и остались на периферии поэтической карты. Отчасти та же история произошла и с более консервативными в метрическом отношении «метареалистами», но, кажется, несколько по другим причинам[19]. (Непотопляемость «концептуализма» в этом разрезе вызвана «вечно-актуальной» идеологической амбивалентностью их контрдискурса.) Зато в перекрестье общественного внимания к концу 1990-х попали компромиссные стратегии, удачно сочетавшие инновацию и традиционность, но главное – работавшие с совершенно новой проблематикой, накладывавшейся на внезапно вновь обнаружившую себя архетипическую «русскую». Обозначим этот новый узел мучительных проблем социологически отстраненно: постсоветская идентичность. Отстраненность тут как нельзя более кстати. Дело в том, что травматический эффект потрясений 1991-го и последующих лет таков, что, возможно, только сейчас, постепенно отходя от шока, мы начинаем осознавать, что с нами произошло.
Поэтому вторая гипотеза состоит в том, что катастрофический сдвиг, столкнувший различные исторические пласты и расколовший – уже не метафорически, а буквально – сознания и тела бывших граждан СССР, сдвиг, словно бы замерший в мертвой точке, точке компромисса, на рубеже двух тысячелетий, больнее ударил и трагичнее, общечеловечнее сказался именно в поэзии «женщин», возможно, как исторически стигматизированного, жертвенного класса. Доказать это на примерах трудно, для этого понадобилось бы провести скрупулезный сравнительный анализ всего написанного за последние лет десять-пятнадцать под углом гендерной лингвистики и поэтики, что превышает мои профессиональные возможности. И, тем не менее, я утверждаю, что это так. Именно поэзия «женщин» с режущей глаз прямотой вскрывает расколотость постсоветского сознания, через семантическую катастрофу и разорванный синтаксис демонстрируя разрушительные, негативные смыслы, скрывающиеся в истории и самом языке – мутирующем, зараженном вирусом насилия, работой смерти. Словом, ставшем плотью и жалом в плоть. Иди и смотри «Русскую версию» всю целиком, построчно, с субтитрами, от «Я Як-истребитель и Мессершмидт / С девизом “повесились”» до «Будто крест несут как цыгане ссут», от «Не возвращайся: здесь опять гебня / И пародируется застой» до «как дикий куст которому давать / язык – изобличать». Иди и смотри «Праздник неспелого хлеба». И «Вид на жительство». И «Песни северных южан». И «Физиологию и малую историю». И «Амур и др.». И «Пусть и вода». И «Слизни Гарроты».
незнакомые звуки пинали меня под дых,
незнакомые звуки хотели, чтобы я сдох,
колотили крылами в лоб,
претворяли в воду и хлеб,
мучили, словно бы я их раб
или я их спас,
мучили, словно бы я был труп,
а потом воскрес,
а потом ушли,
оставили помнить горлом и ртом
белый шум,
ненадобный на земле.
(Марианна Гейде)
<…> Молочная тропинка слизняка
в обратном направлении блестела.
В обратном направленьи от всего.
Ну, подтолкни оставшееся тело.
Пускай бредет пока.
Бреди,
не наше дело.
(Александра Петрова)
Катулл визжит от боли, повизгивает от боли,
Как маленькая собачка.
Плачет, когда никто не видит.
Впрочем, не особо стесняется тоже.
У него совсем нет мужества,
Мужеложества, женоненавистничества
Он усирается от ужаса
Он идет, идет, едет, едет,
И скрыт его маршрут
От радаров совецких разведчиков.
Его в зарницу больше не берут,
Как волчицу и пляшущего человечицу
(Елена Фанайлова)
жизнь в эвакуации с неходячим отцом возьми с дороги
дом возьми с дороги
землю возьми с дороги
каштанов поволжья
нейрологию надгробного слова возьми с дороги
флейту возьми с дорогу
распутицу возьми с дороги
способность обобщать возьми с дороги
утомление возьми с дороги
два светляка и льва
уведомление возьми с дороги
ты по бедро в дороге и дорога, вон брод, колокольню-утопленницу
возьми с дороги
ближних возьми с дороги
холодных
ладно
(Ника Скандиака)
вынь занозу мне из спины,
тосканский портной,
на один глаз кривой и хромающий!
в шёлк зашит его горб и
кромсающий глаз
спрятан в горб мозг намётчика.
из шкур, спиноза, из голых кож,
италиец, закройщик,
сшей мне ветер и воду,
сшей мне, маррано,
красный колпак,
не увижу в московской ночи
тебя сквозь прошитую жилками кровь.
(Анна Глазова)
твой синий цвет убьет потом
самоподобным топольком
прожилки с левой стороны
крупны, черны
у той зимы
все перебои по звездам
аортам, горлом и туда
где с телефоном в ванне спал
я твой фрактал
(Наталья Курчатова)
Дальше могли бы целиком последовать баллады Марии Степановой с их монструозным косноязычьем, сплавляющим Зощенко по реке Потудань в астральный котлован имени Карла Юнга и Фридриха Ницше. Ограничусь фрагментом из «Мужа»:
Он зубом грыз и бил в нее рукой
При том же результате никакой.
Потом устал и взялся за ребро
И стал его рукою растирать
И стал искать по дому серебро,
Каким бывает нечисть убирать.
А пушку я ему не предложил,
Поскольку этой пушкой дорожил.
И он его нашел, фруктовый нож,
Старинный, при узоре, красота,
А эти так и спали без одеж,
Выпячивая нежные места,
У ней и так особенная стать,
Душемутительная, как романс…
И тут он начал этот кисеанс,
Как яблоко на ломтики, кромсать.
Он серебром работал как штыком,
Туманные висели лоскуты
Над мужиком, с которым я знаком,
С которым ночь закручивал болты.
Но он ревет, как витязь под бугром,
И колет, рубит, режет серебром,
И пар валит, и стужа, как во льду.
И тут я понял, что сейчас взойду.
Что это за мир? Прежде всего, это мир смертоубийства, кромешный мужской мир, в котором и пушкинская поэзия, по дьявольской подсказке языка, заряжена (заточена) под гибельное, приравненное к штыку перо. Я читаю эту балладу Степановой как виртуозно замаскированную под легко узнаваемый перебор Высоцкого деконструкцию русского поэтического канона, миметически замыкающую его на фигуре насилия. Мы дорожим этой пушкой. Разве не была первым криком, криком рождения этого канона канонада при Хотине, по прощальному слову Ходасевича?
Конечно, каждая из приведенных выше цитат (их могло бы быть значительно больше) заслуживает отдельного рассмотрения. Я лишь хотел показать некий спектр различных модальностей поэтического высказывания, вращающихся вокруг одного и того же клубка «фиктивно-телесной», жертвенной проблематики.
Остается выдвинуть последнюю догадку, отчасти суммирующую предыдущие. Но для этого понадобиться небольшое отступление об «общественном договоре». Как показали многие антропологи, этот договор никогда не предполагает равенства участвующих сторон и всегда основывается на общественном убийстве, жертвоприношении на благо общества в целом. Социокультурный порядок является жертвенным, жертвоприношение – первичное метафизическое зло – останавливает насилие и развивается в собственный строй[20]. Язык и социальные коды также основываются на жертвенной логике, логике отделения и артикуляции различий, которую женщинам труднее принять, поскольку «[в]нутри этого психосимволического порядка женщины чувствуют себя отрезанными от языка и общественного договора, в которых они не находят ни чувств, ни значений тех отношений, которые связывают их с природой, их телами, телами их детей, другой женщиной или мужчиной»[21]. Существует неустранимая, фундаментальная асимметрия между инициацией в социокультурный порядок мальчиков и девочек и статусом в нем мужчин и женщин; асимметрия, обязанная фигуре Отца, воплощающего закон и логику этого порядка. Социальная трансформация 1990-х обнажила и обрушила эту логику, вылившись в жертвенный кризис, многими воспринимавшийся как распад, цепная реакция, истоки которой уходят в 1937, 1917 или 1905 год, если не глубже. Но одновременно эта перманентная «ходынка» раскрепостила и революционизировала женщин, которые, подобно греческой Антигоне, вобрали в себя чистую негативность, стали ее воплощением, породив в результате феномен своего рода сверхкомпенсации: мимикрирующие под вооруженные до зубов и гениталий мужские, травестирующие, изобличающие и ничтожащие их в себе женские голоса. Детские, сверхсильные, сильнее урана.
Александр Скидан
[1] См. Критическая Масса, 2005 №3/4.
[2] Впрочем, так ли уж очевидны пресловутые «фаллоцентризм» и «патриархатное мышление», гнездящиеся, как выясняется, в бессознательной аксиоматике, «ниже» уровня эстетических предпочтений, абстрактного знания и даже личных привязанностей? Показательно, что в моем случае они «вылезли» там и тогда, когда речь зашла о культурной власти (иерархии), ибо как иначе охарактеризовать операцию публичного оглашения имен «наиболее интересных мне пишущих людей»? Подобные вопросы далеко не невинны, хотя и движимы естественным вроде бы желанием: «скажи мне, кто твой друг (или что ты читаешь), и я скажу, кто ты».
[3] Анна Горенко, Праздник неспелого хлеба / Предисловие Данилы Давыдова. Составление Е. Сошкина и И. Кукулина, подг. текстов Е. Сошкина и В. Тарасова. – М. НЛО, 2003.
[4] См. НЛО, 2001 № 50.
[5] В предисловии к сборнику «Бетонные голубки» (М.: НЛО, 2003, серия Премии Андрея Белого) Илья Кукулин развивает тему «фиктивного тела», правда, почему-то отказавшись отупотребления самого этого многообещающего концепта: «Тело становится игровой приставкой, как в фильме Дэвида Кроненберга “эКзистенциЯ” (“eXistenZ”, 1999). Сращение телесного и компьютерного, (программируемого) в искусственной реальности, сочетающей в себе черты разных эпох, – все это хорошо известные приметы стиля киберпанк (например, романов Уильяма Гибсона). Стилистику Голынко-Вольфсона 1990-х можно назвать киберпанк дель арте». Действительно, гипертрофированно театральная, гистрионическая поэзия этого автора выводит проблематику субъекта высказывания на эфемерные подмостки тотальной коммуникации, мирового сквозняка, где действуют (бес)полые речевые маски, своего рода «разъемы» и «гаджеты» поэтической функции.
[6] См., в частности, стихотворение «Я плакало, прыгало, ело…», на которое указал мне Дмитрий Кузьмин, за что я ему крайне признателен; а также «Девальвация внутреннего червя», которое цитирует в своей статье (правда, уже в контексте иной проблематики) Илья Кукулин.
[7] Кирилла Решетникова, создавшего концептуального персонажа Ш. Б., страдающее логореей и афазией чудище обло, ликующее, триумфальное тело без органов, точнее, с одним орально-анальным органом; уж не в патриаршей ли палаточной пробирке это тело выведено, по традиции, страдающей, с одной стороны, неприкрытой гомофобией, а с другой, поди ж ты, подкрадывающейся тихой сапой сзади, что твой Делез, заделывающий Спинозе ребенка. (См. провокационное высказывание Делеза о философской традиции, которое, с известными оговорками, было бы небесполезно приложить и к традиции поэтической: «Мне кажется, что в свое время я выкрутился благодаря тому, что воспринимал историю философии как этакую содомию или, что одно и то же, как непорочное зачатие. Я воображал себе, что за спиной автора делаю ему ребенка, который должен бы быть его ребенком, но в то же время – монстром. Очень важно, чтобы ребенок был его, поскольку необходимо, чтобы автор в самом деле говорил то, что я заставлял его говорить. Но необходимо и то, чтобы ребенок был монстром, поскольку в дело шли всякого рода смещения центра, ускользания, скрытые недоговоренности, которые доставляли мне огромное удовольствие» (Жиль Делез, Критика и клиника. – СПб.: Machina, 2002, стр. 221-22.).
[8] Райнер Мария Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. – М.: Искусство, 1971. Показательно, что заключительная статья переводчика (В. Микушевича) к этому тому названа «Жалобное небо». Известно, какое влияние оказал австрийский поэт на много и конгениально переводившего Рильке Пастернака, в частности, на его «благоговейное», «жалостное» отношение к «женщине». Пастернак в высшей степени значимый для Степановой автор, поверх его физиологического счастливого захлеба написана книга «О близнецах», особенно первая часть раздела «Женская персона». (Разумеется, в ней «прослушиваются» и другие «мужские» голоса, в том числе – что любопытно – куда более ортодоксально «советских» поэтов.)
[9] См. предисловие к поэме «Беспредметная юность» в Андрей Николев, Собрание произведений / Под редакцией Глеба Морева и Валерия Сомсикова. – Wien, 1993. Подробнее о поэзии Николева и ее политических импликациях см. мой очерк «Длящееся настоящее» в НЛО, 2003, № 59, стр. 419-22.
[10] Маркс, как известно, переписал эту диалектику, отведя мессианскую роль творца истории и освободителя человечества пролетариату. Феминистки немедленно, на волне разочарования в советском опыте построения социализма и возникновения новой диспозиции социальных сил (1968), указали марксистам на скандальное (сексистское) исключение женщин из их якобы универсального освободительного дискурса. Иные, как Моник Виттиг, утверждали даже, что женщины – это политический класс, в строгом смысле слова. С этого момента освободительный пафос переходит к разного рода «меньшинствам», прежде всего – «женщинам». Описывая литературный эксперимент по устранению гендерной маркировки в одном из своих романов, Моник Виттиг пишет: «Прежде чем говорить о местоимении, которое является стержнем “LesGuerilleres”, я хотела бы напомнить, что говорили Маркс и Энгельс в “Немецкой идеологии” о классовых интересах. Они говорили, что каждый новый класс, борющийся за власть, должен, для достижения этой цели,представлять свой интерес как общий интерес всех членов общества, и что в философском смысле этот класс должен придать своей идее универсальную форму, представлять ее как единственно разумную, обладающую всеобщей ценностью» (Моник Виттиг, Прямое мышление и другие эссе / Пер. с англ. Ольги Липовской. – М.: Идея-Пресс, 2002; пер. модифицирован).
[11] Жак Деррида, Шпоры: стили Ницше / Пер. с фр. А. Гараджи. – Философские Науки, 1991, № 3, стр. 114.
[12] См. Хэрольд Блум, Страх влияния. Карта перечитывания / Пер. с англ., сост., примеч., послесл. С. А. Никитина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. Эти шесть стратегий: Клинамен, или поэтическое недонесение; Тессера, или дополнение и антитезис; Кеносис, или повторение и непоследовательность; Даймонизация, или контр-возвышенное; Аскесис, или очищение и солипсизм; Апофрадес, или возвращение мертвых.
[13] Употребление лакановского понятия применительно к Бродскому – не просто дань остроумию и всеядности обоих. «Символическое», по Лакану, это область сверхличных, всеобщих, социокультурных смыслов, задаваемых индивиду обществом, то есть область бессознательного. Это «порядок культуры», выполняющий регуляторную функцию и персонифицированный в фигуре Отца, поскольку именно через Отца ребенок усваивает социокультурный Закон. Поэтому и субъект в концепции Лакана предстает функцией культуры, точкой пересечения различных символических «матриц» и бессознательных желаний; иными словами, уже не культура является атрибутом индивида, как это обычно считается, а наоборот, индивид оказывается «придатком» культуры, говорящей при его помощи, через него. Сходным образом, развивая Цветаеву, Бродский трактовал отношения поэта с языком
[14] «Поэтика последовательного ухода», в Анна Горенко, Праздник неспелого хлеба, стр. 11.
[15]Воздух, 2006, № 1.
[16] Laura D. Weeks, Speaking through the Veil: The Dilemma of Women’s Voices in Russian Poetry, in Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry. – Talisman House, Publishers, USA, 2000, p. 367.
[17] См. анализ этой (восходящей к романтизму) модели в статье М. Ямпольского «Поэтика касания», посвященной А. Драгомощенко и включенной в его книгу «Описание» (СПб., 2000, стр. 355-78).
[18] Конечно, спорное утверждение. И тем не менее: у нас не возникло ни открытого гражданского общества по западному образцу, ни многопартийной системы (разве что ее симулякр), ни сколько-нибудь работающей демократии (пусть не прямой, а хотя бы буржуазно-представительной). Инициатива снизу, как и в советские времена, наказуема, все решается «сверху». Социальные движения малочисленны, разрозненны и не играют практически никакой роли. О средствах массовой информации вообще смешно говорить. Главные статьи государственного дохода – природные ресурсы и торговля оружием. Смена элит, в том числе культурных, произошла, это правда. Вообще в культуре произошли заметные изменения. И где-то к началу 2000-х возникло ощущение, что литература (нет, поэзия) становится привилегированной зоной, где еще возможна какая-то жизнь.
[19] См. статью Дмитрия Голынко-Вольфсона «От пустоты реальности к полноте метафоре («Метареализм» и картография русской поэзии 1980-1990-х годов)» в НЛО, №62.
[20] См.: Рене Жерар. Насилие и священное. – М., НЛО, 2000. А также работы Мосса, Батая, Леви-Стросса и др.
[21] Юлия Кристева, «Время женщин» в Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. – М.: РОССПЭН, 2005, стр. 133.