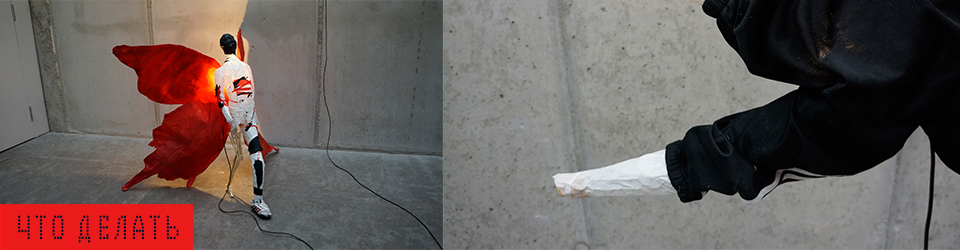Возможность редукции философской мысли к политическому содержанию – разоблачают ли ее, или, напротив, «берут на щит» — вселяет тревогу, как если бы некий первородный грех заставлял нас делать сложный выбор между ответственностью и виной. Так, Жорж Батай, понимая, что мысль – если она свободна и не знает ограничений – это риск, и что она может завести нас куда угодно, даже туда, куда бы нам совсем не хотелось, загодя принимал «вину» (и, однако, не сделался от этого «фашистом»). Хайдеггер, осознавая те же риски, брал на себя ответственность едва ли не за само бытие в его истине – а в итоге оказался «виновным». Его «вина» является предметом нескончаемой и крайне запутанной дискуссии о политических импликациях философского дискурса, в которой на стороне «защиты» оказываются отнюдь не только приверженцы национал-социалистической идеологии, но и те, кто, признавая право этой неудобной фигуры занимать важное место в истории западноевропейской мысли, пытаются примирить Хайдеггера и демократию как нормативный идеал наших дней.
Мой анализ, однако, не имеет целью ни обличения философа, дискредитировавшего себя и свою профессию порочной связью с нацизмом (судят ведь с позиции власти, а она относительна, вернее, абсолютно идеологична), — ни оправдания его на основании некой цеховой солидарности. Мною движет, скорее, естественное любопытство «включенного наблюдателя» по отношению к внутреннему устройству мира, в котором такая связь представляется возможной – «самобытного» мира философии и философов, представляющего собой уникальный антропологический феномен. Пусть Хайдеггер будет нашим проводником в этот мир.
Начну с того, что корреляция между философией и политикой неизбежна, но не непосредственна. Тем не менее, какая-то общая интуиция подсказывает, что есть что-то в существе самой философии, что заставляет ее свою собственную историю раз за разом превращать в обвинительный процесс. Сближение «метафизики» и «тоталитаризма» доходит едва ли не до того, что некоторые защитники демократии ставят между ними знак равенства, а «преодоление» метафизики вменяется нам сегодня почти как обязательство ввиду ее «тоталитарной» природы. Вспомним, что именно философов – Платона, Гегеля, Маркса – Карл Поппер считал главными врагами «открытого общества». Мы могли бы объяснить сближение антифилософского и антитоталитарного пафоса позитивизмом Поппера, если бы такой антипозитивист, широко мыслящий о бытии философ par excellence и, очевидно, «враг открытого общества», как Хайдеггер, не заявил – пожалуй, более радикально, чем Поппер – о том, что атомная бомба взорвалась еще в поэме Парменида.
Позитивизм не столько преодолевает чреватую тотализацией метафизику, сколько избегает ее, рационально ограничивая себя моралью и здравым смыслом, чтобы по неосторожности не попасть туда, где дважды два уже равняется пяти. Хайдеггера же любовь к последним основаниям зовет на самый опасный край мысли, за которым она разотождествится с присваивающим познанием и станет даром и голосом самого бытия. Между тем это он отчетливо поставил перед философией XX века вопрос о «преодолении метафизики», назвав так одну из своих работ, начинающуюся с предупреждения: «От метафизики нельзя отделаться, словно от некого воззрения. Ее никоим образом не возможно оставить позади как учение, в которое уже никто не верит и за которое никто не стоит»; «…мы зря воображаем, будто предчувствие конца метафизики позволяет нам встать вне ее. Она возвращается видоизмененной назад и остается у власти в качестве продолжающего править отличия бытия от сущего»[2].
Метафизика, говорит здесь Хайдеггер, «мыслится все-таки как судьба истины сущего, то есть его бытия в качестве пока еще потаенного, но исключительного события, а именно забывания Бытия»[3]. Судьба бытия, метафизика – это его забвение, которое не может быть забвением, не будучи само забытым. В этом забвении бытие скрывается от нас, тогда как истина преодоления метафизики в том, чтобы приоткрыть сокрытое, вывести его из потаенности: «Преодоление метафизики оказывается достойным делом мысли лишь в той мере, в какой мысль помнит о превозмогании забвения бытия. Та же неотступная мысль думает одновременно и о преодолении. Такая мысль-память (Andenken) осмысливает то единственное событие лишения сущего своей собственной сути, в котором просвечивает и прощально озаряет человеческое существо бедственное положение истины бытия, а тем самым и начало истины. Это пре-одоление есть пре-дание метафизики ее истине»[4]. Однако в своем забвении бытие прячется и тем самым сохраняет себя, а значит, окончательное выведение его из потаенности уничтожит его, превратив в сущее. Это один вариант катастрофы. Другой вариант таков, что забвение бытия, будучи окончательно забытым, замкнет сущее на себе самом, и бытие уже никогда не откроется нам в своей истине. Опасность этой двойной катастрофы, по Хайдеггеру, несет в себе современная техника, бесконечный прогресс которой ведет к преодолению конечности человека: а конечность ведь только и связывает Dasien, нашу «экзистенцию», с истиной бытия.
«Хайдеггер подчеркивает, что истинная опасность состоит не в физическом самоуничтожении человечества, угрозе, что что-то пойдет не так с биогенетическими вмешательствами, а в том, что НИЧЕГО не пойдет не так, что генетические манипуляции будут функционировать гладко, — в этот момент круг замкнется, а определенная открытость, которая характеризует бытие человеком, исчезнет», — пишет об этом Славой Жижек[5], и продолжает: «Иными словами, разве хайдеггеровская опасность (Gefahr) не является опасностью того, что онтическое “полготит” онтологическое (со сведением человека, Da (здесь-) Бытия к очередному объекту науки)? Не сталкиваемся ли мы здесь вновь с формулой страха невозможного: мы боимся, что то, чего произойти не может (так как онтологическое измерение несводимо к онтическому), все же произойдет?».
Позволю себе уточнить выведенную Жижеком формулу: случай Хайдеггера описывает не столько «страх невозможного», сколько ужас перед тем, что невозможное становится действительным. То, что предстает как опасность, в некотором роде уже свершилось: во времени философии катастрофа и ее предчувствие совпадают; опасность здесь – это ведь и судьба: «ничего не пойдет не так», и ничто и не идет не так! (Эдип думает, что бежит от судьбы, но не знает, что он уже убил Лая.) То, что осознается как опасность, уже произошло: мы живем в свершающейся катастрофе, и наше бытие человеком – метафизика как она есть – имеет дело с опасностью, которая не угрожает откуда-то извне, а владеет мыслящим существом на правах судьбы. Беда не в том, что бомба взорвется, а в том, что она уже взорвалась: «Человек оцепенело смотрит на то, что может наступить после взрыва атомной бомбы. Человек не видит того, что давно наступило, свершившись как нечто такое, что уже лишь в качестве своего последнего извержения извергает из себя атомную бомбу с ее взрывом…»[6].
Что же такого сказал Парменид, что по мысли Хайдеггера, имело силу разорвавшейся бомбы? «Если взглянуть на послание Парменида, так сказать, логически, можно выделить три главных положения: бытие есть, ничто – не есть, или, проще, бытие есть, небытия – нет; мышление и то, о чем (ради чего) мысль – одно и то же; существует подлинное бытие, связанное с мышлением – и неподлинное, связанное с чувственным восприятием»[7]. Первое положение представляет собой тавтологию и ложится в основу формальной логики (а=а). Из второго рождается принцип тождества мышления и бытия. Третье вводит различение между (подлинным) бытием и сущим. Онтико-онтологическое различие, как назовет его Хайдеггер. Различие, с которого, по его мысли, и начинается главная интрига западной философии, то есть метафизики.
Напомню, что корень этого различия Хайдеггер видит в языке: сущее есть все то, что есть, а бытие – само «есть», и у этого «есть» особая реальность, очень близкая к ничто, причем не к какому-то ничтожному ничто, которого нет, а к такому ничто, которое важнее всего что есть, поскольку без него ничего бы не было. Вопреки Пармениду, «Бытие не может быть. Если бы оно было, оно не оставалось бы бытием, а стало бы сущим»[8]. Отсюда основной хайдеггеровский вопрос, который он называет главным вопросом метафизики: «Почему вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?»[9]. Что, если (начиная с какого-то момента) не тождество, а не-тождество связывает мышление и бытие (бытие же немыслимо)? Что, если увлекаясь сущим – тем, что мы можем представить, увидеть, потрогать и попробовать – и двигаясь по пути развития науки и техники, мысль все дальше удаляется от бытия, забывает о нем?
Мир, говорит Хайдеггер, шаг за шагом опредмечивается, сбивается в этакую плоскую картину, а познающий и властно осваивающий его субъект, имея дело с пустыми репрезентациями, в итоге замыкается сам на себя. Одно такое короткое замыкание – и вместо полнящегося тайной мира перед нами какой-то склад ничтожных объектов. Вот она снова, метафора взрыва: «Принудительное в своей области – области предметов – научное знание уничтожило вещи как таковые задолго до того, как взорвалась атомная бомба. Ее взрыв – лишь грубейшая из всех грубых констатаций давно уже происшедшего уничтожения вещи: того, что вещь в качестве вещи оказывается ничем»[10]. Философия, стало быть, имеет дело уже не столько с бытием, сколько с ничто, понятым двояко: как обнадеживающее «есть», но при этом не есть ничто из сущего (то, что продолжает прятаться или отворачивается от нас в забвении), и как вселяющее ужас небытие (опустошенный техникой «не-мир»).
Конечно, во времена Парменида вопрос так не стоял и стоять не мог. Не потому, что бытие не было еще забыто, а потому, что его место не было еще занято мыслящим субъектом. Субъект, напоминает нам Хайдеггер, – это позднее европейское новообразование, которое, однако, выросло из парменидовского тождества, недоосмысленного, недопонятого и в конечном итоге переинтерпретированного до полной неузнаваемости. Если бытие Парменида – это единство, включающее в себя всю множественность сущего, и оно мыслит само себя (в общем-то, без помощи человека), то у Декарта мысль, то есть мыслящее «я», и есть подлинное бытие, которое может усомниться во всем, кроме себя самого (и уже это мыслящее «я» громоздит вокруг себя мир безразличных предметов). Но как бы там ни было, по Хайдеггеру, именно Парменид проложил путь метафизике: бытие пусть и мыслит само себя, зато философ может – и здесь его привилегия – подключиться к этому мышлению-бытию, чудесным образом «попасть» в него.
Как пишет Ирина Протопопова, российский исследователь неоплатонизма, «Парменид впервые в европейской традиции разграничивает сферу подлинного, связанного с мышлением и бытием – и преходящего, связанного с чувственными ощущениями, а потому мнимого. <…> Но дело не столько в том, что у Парменида в результате получилось, но прежде всего в самом опыте – это базовый философский опыт приобщения к подлинному бытию через попадание в собственное мышление. Парменид совершил первое философское чудо в этой традиции – попал в такое состояние, в котором весь привычный человеческий опыт приобрел другое измерение. Он не описывает, каким образом у него это получилось – мы знаем только по отрывкам из его поэмы, что он воспринимал это как мистериальное посвящение. Мы знаем, что его несет колесница, ведомая Девами-Гелиадами, привозящая его к вратам Дня и Ночи, на грань этого и того мира, в чертоги богини Дики, которая и наставляет Парменида в мудрости, причем подчеркивает, что этот путь запределен для людей»[11].
Итак, с самого своего возникновения – и в некоторых случаях до сих пор – философия предстает как практика особых пограничных состояний, как мистический опыт, как путь мысли к запредельному, по ту сторону сущего к самому бытию. Греки, подчеркивает Хайдеггер, описывают этот опыт как алетейю, приоткрывание сокрытого («канувшего в лету»), то есть истины бытия. Парадоксальным образом – и именно на это я хочу обратить здесь внимание – посредством своей «открытости бытию» философия становится своего рода закрытым сообществом, сообществом посвященных. Это не то конвенциональное либерально-демократическое хабермасовское сообщество, участники которого будто бы готовы спокойно обмениваться мнениями в общем интеллектуальном пространстве, а то, что зависает во времени, не видя истории вне схемы метафизического пути. Не секрет, что философы мыслят себя в сообществе и диалоге, прежде всего, с другими философами, в том числе давно умершими – такое сообщество образует своего рода виртуальный континуум (так, Хайдеггер напрямую обращается к Пармениду…). С одной стороны, время и история здесь как бы схлопываются в круговом движении саморефлексии (то, что свершится – уже свершилось, бытие – это ничто, «свобода – это рабство»…), а с другой, возникает своего рода мегаломания, проявляющая себя если не в убеждении, что силой мысли мы можем воздействовать на ход бытия (не через примитивную магию, конечно, но через политику, изобретая модели общества: и попытка реализовать одну из первых известных нам моделей была предпринята Платоном в Сиракузах), то в вере, что судьба бытия и судьба метафизики как мысли о бытии суть одно и то же.
Как раз последний случай напрямую касается Хайдеггера, философа катастрофы мира, заблудившегося в просторах мысли («заблудившийся мир» или «заблудившийся философ»? – я намеренно сохраняю неточность этого оборота: философ думает, что заблудился мир, тогда как мир думает, что заблудился философ). Философия (метафизика), техника, история – все это имена для одного и того же блуждания, не столько слепого, сколько слепо вверенного некой общей судьбе (а судьба бытия есть ведь его истина!). Филлип Лаку-Лабарт пишет, что один из главных хайдеггеровских мотивов, определяющих его политику, «Это судьба немецкого народа, <…> а первая вписывается, в свою очередь, в судьбу Запада, то есть в европейскую историю в той степени, в какой судьба мира отныне делается судьбой Запада. Горизонтом здесь является, разумеется, “планетарное измерение” техники, чья сущность, как скажет позже Хайдеггер, не есть “нечто техническое”, ибо ее нужно мыслить как последнее развертывание философской истины, а это наиболее могущественный и совершенно неподвластный человеку способ завершения и осуществления метафизики»[12].
Говоря о Хайдеггере, мы должны удерживать в голове принципиальную двойственность всех его утверждений. С одной стороны, мир и философия в забвении истины бытия сбились с пути, они блуждают. С другой, судьба мира и бытия сама развертывается в этом блуждании как философская истина. То есть, выходит, истина – это заблуждение? Вот еще один трюк, возможный (а то и неизбежный) в замкнутом пространстве-времени философии. Совершив его, заблуждение нацизма можно уже по-хайдеггеровски объяснить и оправдать как радикальное и решительное принятие некой высшей истины, шаг навстречу которой есть духовно-историческая миссия находящегося в центре Европы и наследующего греческой философии немецкого народа: «Требования Хайдеггера к национал-социализму в действительности переходили всяческие границы: он хотел не меньшего, чем радикального превращения, настоящего (пере)-начинания истории и если и не отрыва от научно-технической судьбы Запада, то в любом случае подлинно героического выступления навстречу этой судьбе (к тому же истинно прометеевского)»[13].
Если для Хайдеггера очевидна катастрофичность научно-технического прогресса, то это не значит, что он призывает к отказу и возвращению в архаику («Мое пресловутое неприятие техники есть великое заблуждение», — напишет Хайдеггер в 1968 году[14]). Переначинание истории через приобщение к греческому «истоку» – не возврат, а полный оборот, совершаемый в безвременьи философии. Траектория этого движения отражает метафизические претензии хайдеггеровской вовлеченности: ход истории фатален, но его можно опередить, вернее с ним совпасть, выдвинувшись на самое его острие, к ничто, к той точке, в которой европейский нигилизм аннигилирует сам себя. А перед лицом ничто как раз и предстает в своей открытости истина, которая превосходит человека и которой нужно теперь просто ввериться, отдаться. Такова одна из возможных метафизических операций, относительно которых справедливо замечание Пьера Бурдье: «Здесь снова можно прочесть, что тоталитарное государство и современная наука являются “необходимыми следствиями сущностного развертывания техники” и что – еще немного развивая переворот – единственно истинная нереакционная мысль есть мысль, смело встречающая нацизм, чтобы с “решимостью” осмыслить его сущность, а не бежать от нее. Тот же смысл содержится в знаменитой фразе из “Введения в метафизику” <…> о “внутренней истине и величии“ национал-социализма, “а именно соединении планетарно предназначенной техники и человека Нового времени”»[15].
Надо сказать, Бурдье позиционировал себя как аутсайдер по отношению «полю философии». Вот почему объяснения, которые так или иначе «работают» внутри «закрытого сообщества» философов, он легко может разоблачить как фикции. Благодаря смещению смысла слов обыденного языка, утверждает Бурдье, философы создают собственную эзотерическую терминологию, которая облекает в респектабельную форму – сублимирует и эвфемизирует – «наивное» или даже «постыдное» политическое содержание. Высказывания в рамках данного поля производятся не только в силу необходимости – как хотелось бы думать самим философам – имманентной логики истины, но и главным образом в соответствии с их собственным габитусом, или, грубо говоря, с положением тела мыслителя в конкретном социальном пространстве.
Всемогущество мысли – это иллюзия; автономия поля философии относительна; существуют внешние ему диспозиции, непосредственно на него влияющие, — не устает повторять Бурдье. Скорее, чем истине бытия, философ всякий раз отдается, пусть неосознанно, требованиям интеллектуального рынка, который, собственно, и делает возможной «…прежде невозможную философскую позицию, расположенную по отношению к марксизму и неокантианству так же, как “революционные консерваторы” располагались в идеолого-политическом поле по отношению к социалистам и либералам»[16], то есть позицию Хайдеггера. «Мыслитель является скорее объектом, чем субъектом этих наиболее основополагающих риторических стратегий, которые приводятся в действие, когда, ведомый практическими схемами собственного габитуса, он делается в своем роде одержим, как медиум, необходимостью, диктуемой социальными и одновременно ментальными пространствами, которые через него вступают в отношение друг с другом»[17]. Философ, по Бурдье, не ведает, что говорит – не потому, что вверяет себя голосу бытия, а потому, что попросту не понимает своего места в нем.
Но что значит «понимать свое место»? Социолог, не будучи вовлечен в замкнутый круг спекуляции, которым живет философский мир, объективирует его и локализует в социальном пространстве, при помощи собственных понятийных конструктов (поле, габитус и т.д.) указывая обитателю этого мира на его место (немец, мелкий буржуа, профессор, ректор нацистского университета). Ясно, однако, что изнутри метафизического круга само понятие места приобретает иные очертания. Дело в том, что для философии центральной категорией является все-таки субъект, особенности которого остаются принципиально вне поля зрения Бурдье. Напоминая нам, что философ сверхдетерминирован своими социальными ролями и функциями (что он является «скорее объектом»), социолог лишает философскую субъективность пространства для маневра, отказывает ей в свободе, или – говоря словами Хайдеггера (у которого место субъекта занимает Dasein) – в «открытости».
Тем временем субъект философии – постольку, поскольку он хочет мыслить немыслимое (например бытие сущего, или ничто) – обладает некоторыми психофизиологическими особенностями. В самом деле, мыслить мыслимое может любой, а вот мыслить немыслимое – это уже, скажем так, пограничный опыт. Вспомним выше процитированный фрагмент о чуде попадания Парменида в «собственное мышление» — разве не имеем мы здесь дело описанием измененного состояния сознания? Нам дают понять, что место, в котором мысль совпадает с бытием, располагается в «другом измерении», и традиция философии неотделима от психотехнических процедур достижения таких состояний интенсивности мысли, когда функция субъекта достигает, выражаясь языком математики, точки экстремума. Если это экстремум со знаком плюс («бытие», «мысль»), то он непосредственно граничит с экстремумом со знаком минус («ничто», «безумие») и может в него перейти (случай Ницше). Границу безумия можно обнаружить во всех значимых философских системах (даже в самых наукообразных аналитических философиях языка), и метод будет определяться тем, как в той или иной системе соблюдается баланс между двумя крайностями (которых старательно избегают теории среднего уровня). Предельный опыт философской практики – удержаться на этой границе, собственным телом как бы прикрывая разверзающуюся благодаря работе мысли дыру в небытие (то есть «спасти мир», с которым мышление-бытие себя в эти моменты отождествляет, предложив для этого собственное решение – идею, концепт). Вот почему философия постоянно занимается обустройством каких-то своих собственных странных мест, которые она описывает в терминах а-топии или утопии, соизмеряя их с ландшафтом, территорией, миром, землей и т.д.
Валерий Подорога в эссе «Ландшафт Шварцвальда. Мартин Хайдеггер» пишет: «Мысль не может существовать вне своего места, ей небезразлично собственное местоположение в структуре бытия»[18]. Однако это совершенно особое место, – и следующие рассуждения Подороги напоминают не столько о Хайдеггере, сколько о Декарте с его классическим (красной линией проходящим, в общем-то, через всю западноевропейскую философию) конфликтом между мыслящей и протяженной субстанцией: «Что такое место мысли? Очевидно, что место мысли по отношению к любому локальному или историческому месту обладает качествами не-места (non-place). Если точнее, является местом не-места. Неместность мысли: ее несводимость к тому или другому месту (ни к биографическому, ни к порядку понятий); она всегда как бы «между»: ни то, ни это, ни там, ни здесь, но и в то же время она проходит через все эти пространственно-временные и языковые разделы, становится в них, но никогда не бывает ставшей. Мысль – это энергия прохождения, которая соединяет несоединимое: мыслимое с немыслимым. Место мысли – не-место всех возможных мест»[19].
Правда, в социальном порядке для философии имеется, как правило, зарезервированное место – скажем, академическая институция – однако трудно отделаться от ощущения какой-то неуместности кафедры метафизики в современном мире. Если угодно говорить о габитусе мыслителя, то в его формировании участвует не только институциональное место, но и одновременно эта очевидная неуместность: так, философа традиционно преследует образ смешного непрактичного чудака. Обращая мысленные взоры к чистому бытию, которое, как говорит Гегель, ничем уже не отличается от ничто, он может не замечать или не понимать самых элементарных вещей. Диоген, живущий в бочке, Фалес, упавший в колодец – это лишь греческие примеры, но свои причуды есть и у классических, и у современных мыслителей; и у Хайдеггера они, безусловно, есть[20]. Подобная фигура представляется избыточной как по отношению к респектабельному миру науки, так и по отношению к социуму вообще. Более того, она может быть или казаться опасной, так как собственным поведением или высказываниями философ оспаривает конвенциональные нормы морали и здравого смысла (вспомните суд над Сократом!), и тогда он – асоциальный бродяга, неместный и чужой в своем государстве. В этом ином габитусе отражаются как глупость «внешнего» мира, в котором неуместна мысль, так и «внутренний» склад философского субъекта, определяемый привычкой впадать в пограничные состояния, которые Жижек, к примеру, описывает при помощи понятия «параллакса» (смещения, разрыва):
«С самого своего начала (с ионийских досократиков) философия появлялась в расщелинах субстанциальных социальных сообществ как мысль тех, кто оказался в “параллактическом” положении, будучи неспособным полностью идентифицировать себя с какой-либо положительной социальной идентичностью. В своей книге “О тирании” Лео Штраус так ответил на вопрос “В чем состоит философская политика?”: “В том, чтобы убеждать город, что философы не являются атеистами, что они не занимаются осквернением всего святого в городе, что они почитают то же, что почитает город, что они не ниспровергатели, короче, что они не безответственные авантюристы, а хорошие и даже лучшие граждане”. Это, конечно, оборонительная стратегия, пытающаяся скрыть действительную ниспровергающую природу философии. Это важное измерение остается не объясненным Хайдеггером: ведь – от его любимых досократиков и далее – философствование связано с “невозможной” позицией, смещенной по отношению ко всякой общинной идентичности, будь то экономика как организация домохозяйства или полис. Подобно обмену у Маркса, философия появляется в расщелинах между различными сообществами, в хрупком пространстве обмена, обращения между ними, в пространстве, которому недостает позитивной идентичности»[21].
Разумеется, в этих расщелинах, где они скитаются и прячутся, философов можно высветить и поймать, дав им определенные характеристики – объективные или субъективные, социальные или психические. Однако, как утверждают Жиль Делёз и Феликс Гваттари, для того, чтобы расшифровать смысл их «невозможной» позиции, одной диагностики «психосоциальных типов» недостаточно – равно как недостаточно и понятий субъекта и объекта. Полемизируя с социологией (в лице Зиммелея и Гофмана), эти авторы пишут: «Как нам представляется, социальное поле, включающее структуры и функции, еще не позволяет нам непосредственно подступиться к некоторым движениям, которыми захвачен Socius»[22]. Структурно-функциональный подход упускает из вида столь важную для Делёза и Гваттари динамику становления, о которой они рассуждают в терминах «геофилософии» – «территория», «детерриториализация», «ретерриториализация». Привязка любого делезианского существа к своей территории причудлива и произвольна, и какой-нибудь первейший его жест – скажем, отрывание лапы от земли – уже представляет собой смещение: никто не стоит на месте, не занимает своего места:
«Мы знаем, как важны уже у животных такого рода действия, состоящие в формировании территорий, которые затем можно покидать, выходить за их пределы и даже создавать себе новую территорию в чем-то совсем отличном по природе <…> Можно заметить, что любой человек <…> ищет себе территорию, переживает или сам осуществляет детерриториализации, а затем ретерриториализируется практически в чем угодно – в воспоминании, фетише, грезе. Эти мощные импульсы выражаются в припевах-ритурнелях: “моя хижина в канаде”, “прощай, я уезжаю”, “да, это я, я должен был вернуться”»[23].
Своим возникновением и существованием философия, по Делёзу и Гваттари, обязана как раз энергии детерриториализации, интенсивным движениям обмена и морской торговли, оживлявшим греческий мир, к берегам которого в какой-то момент прибивается мысль. Авторы цитируют Ницше: «Представьте себе философа как эмигранта, прибывшего к грекам: так и обстояло дело с этими преплатониками. Все они в некотором отношении иностранцы, оказавшиеся на чужбине»[24]. А если они на чужбине, значит, исток философии – не столько определенная родина, сколько значимое отсутствие таковой, бездомность, из которой они пришли сюда и которую они смутно припоминают как некий давно покинутый дом. Хотя Жижек и упрекает его в недостаточной проясненности параллактической позиции философа, Хайдеггеру, при всей выраженной позитивной «немецкой» идентичности, очень хорошо знакома эта романтическая тоска. «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома», — повторяет он вслед за Новалисом, и добавляет: «Подобной тягой философия может быть только тогда, когда мы, философствующие, повсюду не дома»[25].
Повсюду не дома, по Хайдеггеру, впрочем, оказываются не только философы, но и все европейское человечество, оставленное бытием и бездомно блуждающее в забвении своего истока. В «Письме о гуманизме» он оговаривается, что понимает родину «…в сущностном смысле, не патриотическом, не националистическом, а бытийно-историческом»[26]. В этой перспективе все его апелляции к родине предстают не чем иным, как «философскими ритурнелями о доме»: «Что такое отчизна или Родина, к которым обращаются мыслитель, философ или художник? Философия неотделима от некоей Родины, о чем свидетельствуют и априори, и врожденные идеи, и анамнесис. Но почему же эта отчизна оказывается неведомой, утраченной, забытой, почему мыслитель оказывается Изгнанником? Что может дать ему замену территории, где он был бы все равно как дома? Каковы философские ритурнели о доме? Каково соотношение мысли с землей?», — спрашивают Делёз и Гваттари[27], приближаясь к самым опасным краям хайдеггеровской мысли – к тем, где она балансирует между бытием и ничто, между метафизическим развертыванием понятий родины, земли, народа – и фашистской политикой.
Философия по Делёзу и Гваттари – это ведь не только детерриториализация мысли, это еще и ее ретерриториализация, когда из неудовлетворенности существующим положением вещей, сопротивляясь тому, чтобы все оставалось на своих местах, она не просто уходит в «расщелины сообществ», но и активно взывает оттуда «к новой земле и новому народу». Понятно, что такое взывание имеет утопический характер, но «именно в утопии осуществляется смычка философии с ее эпохой», и именно «благодаря утопии философия становится политикой и доводит до кульминации критику своей эпохи»[28]. Утопии же, по Делёзу и Гваттари, бывают плохие (авторитарные, или утопии трансцендентности) и хорошие (либертарные, революционные, имманентные). В первом случае становление упирается во что-нибудь великое, во втором – развертывается в бесконечность, обрекая философский народ на вечное странствие в поисках новой земли. Беда Хайдеггера, стало быть, не в том, что он не понимает своего места, а в том, что он делает ставку не на ту утопию: «Он неверно выбрал себе народ, землю, кровь»[29].
Бытие – вот подлинная родина, хочет сказать нам Хайдеггер: но мы ведь не можем просто так, непосредственно из своего блуждания взять и припасть к этому истоку. А поскольку дом бытия – это язык, то именно через язык народ осознает себя как бытийно-историческую общность и в совместном труде обретает собственную землю и осуществляет собственную судьбу. Западноевропейское человечество наследует римлянам, которые в переводах утратили подлинный смысл идущих от самого бытия в его сути греческих слов, и теперь именно немцы – метафизический народ – могут этот смысл не то чтобы вернуть, но снова осмыслить в его сращении с современным миром техники: так философия Хайдеггера и оседает на германской почве. «Хайдеггер попытался вернуться к грекам через немцев в самый худший момент их истории: как говорил Ницше, что может быть хуже, чем ожидать грека, а встретить немца? Казалось бы, как не оказаться концептам (хайдеггеровским) внутренне оскверненными в результате столь низменной ретерриториализации? Но, может быть, вообще во всех концептах содержится та серая зона неразличимости, где борцы на миг сливаются на фоне земли и утомленный взгляд мыслителя может принять одного за другого – не только немца за грека, но и фашиста за творца свободы и экзистенции»[30].
Мне хотелось бы задержать внимание на этой присущей всякому концепту «серой зоне неразличимости», о которой говорят Делёз и Гваттари. Похоже, что близкое знакомство с ней составляет своего рода внутреннюю открытость закрытого сообщества философов и позволяет его членам прощать друг другу «некоторые вещи» и снова и снова перечитывать друг друга слева направо или справа налево. Концепт и вырастает из этой «серой зоны», где бытие сливается с ничто, прошлое с будущим, заблуждение с истиной, опасность – со спасением («Но где опасность, там вырастает и спасительное»: слова Гёльдерлина, часто цитируемые Хайдеггером), и снова упирается в нее, указывая на тщетность философского поиска, о которой философы могут знать даже больше тех, для кого такая тщетность служит очевидным аргументом против философии. «Утомленность взгляда» идет от того, что одинокий боец в этом поле не всесилен и у всякой превозмогающей себя мысли имеется естественный предел – отсутствие возможности исходя из философского концепта окончательно объяснить и оправдать мир, — нежелание мириться с которым обязательно приводит к какой-нибудь ошибке, причем такая ошибка служит поводом не к отказу от концепта, а к непрекращающимся попыткам начать все сначала. Философы возвращаются к ошибкам того, кого считают своими предшественниками или «сообщниками», чтобы пройти заново тот же путь, но огибая уже знакомые ловушки. Так, философия деконструкции движется по следам хайдеггеровской мысли в прошлое, чтобы уже там найти и обезвредить глубоко запрятанный корень метафизического «зла», и тем самым обнаружить возможность иного, альтернативного, демократического, экологического или даже антифашистского прочтения Хайдеггера (вопреки ему самому).
В блуждающем философском народе неслучайно возникают дрязги, когда какой-нибудь его представитель прибивается к какой-нибудь почве, родине, вступает в партию, начинает защищать государственную идеологию, находит утешение в религии. Как если бы единичный эксплицитный политический выбор всякий раз указывал на неудачу общей имплицитной «программы» всех философов – оставаться на стороне онтологической неопределенности, между тем и этим, ни там и ни здесь («Мы сами же и есть переход, “ни то – ни другое”. Что такое это наше колебание между “ни то – ни то”? Ни одно, ни равным образом другое, вечное “пожалуй, и все-таки нет, и однако же”»[31]). Наличие такой программы, пусть и не всегда осознаваемое, определяет некоторые особенности «закрытого» сообщества философов, не столько профессионального, сколько экзистенциального. Негласно разделяемая его участниками утопия всегда имеет в виду эту серую зону неопределенности и опасной двойственности, которую ни кто иной, как Хайдеггер назвал привлекательным словом «открытость». В ее предельной точке – точке перехода – важно удержать баланс.
И однако же: в предельной точке, где открытость – именно потому, что она открытость, то есть неоднозначность и свобода – рискует перейти в свою противоположность (когда вас «качнет вправо»), удержание баланса не имеет ничего общего с нейтральностью, со старым философским идеалом незаинтересованного созерцания, с воздержанностью здравого смысла или, если угодно, с современным императивом либеральной толерантности. Удержание баланса не есть покой, а есть активное сопротивление движению, которое Ницше – а за ним Делёз – назовут становлением-реактивностью. Сопротивление вечному движению по часовой стрелке, слева направо, от сообщества к государству, от свободы к подчинению, от жизни к смерти, к земле. Сопротивление реакции, инерции, танатосу, забвению. Удержание баланса предполагает упорствование, перманентное усилие противостояния «воле к небытию», откуда доносится до нас и куда влечет хайдеггеровский «зов бытия». Характер этого усилия и определяет философию как политику.
[1] Эпиграф к статье: «Ни “хайдеггерианец (хайдеггерианка )”, ни “антихайдеггерианец (антихайдеггерианка)”, вы знаете все о его «деле». Вы пришли к Хайдеггеру после тягостных, безапелляционных биографических и политических разоблачений, о которых вы знаете в деталях. Никакое сомнение, никакая иллюзия для вас недопустимы. И однако же, у вас странное чувство, будто мысль Хайдеггера все еще перед вами, что она продолжает существовать подобно призраку, который ждет, чтобы его освободили. Давно пора открыть горизонт этого ожидания. Вы не виноваты в том, что хотите продолжать мыслить. Вы не виноваты в том, что понимаете, что очевидно не можете сделать этого без Хайдеггера. Вы не виноваты в том, что вы философ. Вы не боитесь выступить против консенсуса. Вы свободны» (Malabou K. Le Change Heidegger: Du fantastique en philosophie. Paris: Eds. Léo Scheer, 2004).
[2] Хайдеггер М. Что такое метафизика? М.: Академический проект, 2007. С. 230—231.
[3] Там же.
[4] Там же. С 237.
[5] Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. М.: Европа, 2008. С. 165.
[6] Хайдеггер М. Время и бытие. С. 316.
[7] Протопопова И.А. Мышление в платоновской традиции (некоторые отклики на «Манифест философии» А. Бадью). https://kogni.narod.ru/noema.htm.
[8] Хайдеггер М. Время и бытие. С. 380.
[9] См., например: Хайдеггер М. Что такое метафизика? М.: Академический проект, 2007. С. 42
[10] Хадеггер М. Время и бытие. С. 319.
[11] Протопопова И.А. Мышление в платоновской традиции (некоторые отклики на «Манифест философии» А. Бадью).
[12] Лаку-Лабарт Ф. Поэтика и политика / Логос. № 2. 1999. С. 122.
[13] Там же.
[14] Письмо к господину С. Цемаху в Иерусалим, 18 марта 1968 г. Цит. по: Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер. с нем. Н.О. Гучинской. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1997. С. 118.
[15] Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Праксис, 2003. С. 78.
[16] Там же. С. 125.
[17] Там же. С. 183.
[18] Подорога В.А. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995. С. 248.
[19] Там же.
[20] См. например: «В Марбурге Хайдеггер обращал на себя внимание даже своим внешним видом. В зимние дни его нередко видели возвращающимся в город с лыжами на плече. Иногда он и на лекции приходил в лыжном костюме. Летом Хайдеггер носил свою знаменитую суконную куртку и бриджи до колен – облагороженный вариант костюма участников движения “перелетных птиц”. Студенты прозвали этот наряд “экзистенциальным одеянием”. Он был сшит по эскизу художника Отто Уббелоде. Гадамеру в такой манере одеваться виделось что-то “от неброского щегольства крестьянина, наряженного по-воскресному” (Сафрански Р. С. 186. Хайдеггер: германский мастер и его время / Пер. с нем. Т.А. Баскаковой при участии В.А. Брун-Цехового; Вступ. статья В. В. Бибихина. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2005).
[21] Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. С. 15.
[22] Там же. С. 88.
[23] Там же. С. 88—89.
[24] Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. С. 113.
[25] Хайдеггер М. Что такое метафизика? С. 86.
[26] Хайдеггер М. Время и бытие. С. 206.
[27] Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. С. 90.
[28] Там же. С. 129.
[29] Там же. С. 142.
[30] Там же. С. 141.
[31] Хайдеггер М. Что такое метафизика? С. 87.