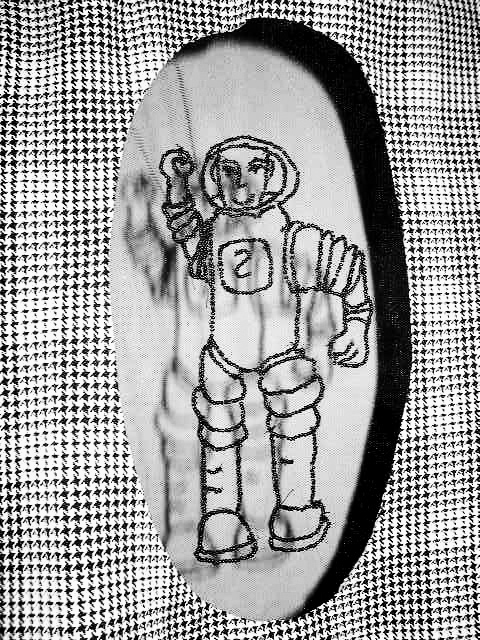Д. Я помню, как в начале вашей работы с Цаплей вы стремились дистанцироваться от определения своего творчества в рамках феминисткой традиции, в тоже время вы активно сотрудничали с главными фигурами местного феминисткого дискурса с Аллой Митрофановой и Ирой Актугановой, участвовали в работе кибер-фемин блока в рамках Документы 10. Что изменилось за последние годы? Как ты заново очерчиваешь свою позицию?
Г. В нашем искусстве всегда шла речь о внутреннем мире, о поэтизации обыденности, нам хотелось, чтобы не было скучно, депрессивною, чтобы рутина и быт превратилась в бесконечный захватывающий дух перформанс. Нас с Цаплей объединила любовь к приключениям, а это желание всегда связанно с тем, чтобы быть “наоборот” по отношению к существующему порядку вещей. Мы много работали с одеждой и с людьми, вовлекая их в свою жизнь и творчество. И так как мы женщины, то в произведениях это неизбежно отражалось. Тогда мы считали, что феминизм – это когда женщины выходят с лозунгами: “Долой Мужчин!” Мы были уверены, что область политики это что-то нечистое, что заниматься политикой это пошло. Но сейчас, все меняется, мы уже лучше разобрались в вопросах внутреннего устройства и понимаем, что это все связано с обществом, и важно найти свою активную роль в социуме.
Д. Согласен, ещё в середине 90ых, в Петербурге, в отличие от Москвы, где многие ведущие художники прошли выучку в реальной работе полит-технологов, политика воспринималась как совершенно отчужденная коррумпированная сфера, которая не достойна внимания. У нас скорее ставился акцент на погруженности в личный мир, в дистанцирование от реальной политики, как радикальная форма романтического сопротивления.
Г. Что значит реальная политика? Когда все вокруг крутятся в “публичном”, то художники из протеста устремляются в то место, которое находится в сфере приватного. Соответственно и наоборот – сейчас, когда вокруг все тяготеет к “приватному”, нужно устремляться к коллективному, к идеям объединения,делать приватное публичным. Но при этом интерес к внутреннему миру всегда останется наиболее важным для художников.
Д. Да, но надо четко понимать, что когда мы сегодня заговорили о политизации искусства, то мы говорим о некой утопической возможности пересмотреть свою позицию в обществе, найти НЕ перехваченные обществом потребления – через масс-медиа или же институции, способы влияния на социум. Мне кажется, что сегодня наиболее актуально выстраивание непосредственной работы на микро-уровне: личным примером, задействуя формы непосредственного обращения. В этом плане, в нашем развитии есть преемственность – это дистанцирование от индустрии культуры. Можно сказать, что мы сами себе институции, без бюрократических надстроек, коррупции и мы способны при этом демонстрировать высокую эффективность работы. Как ты видишь возможности участия в социальной жизни и как твоё искусство способно влиять на социум?
Г. Мой проект, связан с перформансом. Магазин – это форма такого длительного перформанса. Я работаю с молодыми девушками, которые производят определенные объекты – одежду и предметы, которые там продаются. Это не обычная одежда – а одежда, которая выражает переживания человека. Раньше я все делала сама. Я уверена, что в моих работах отразились последствия советской системы – недостаток внимания к чувствам, внутреннему миру. Мама недавно сказала: “Нас учили, что частная жизнь вообще, любовь, семья это не главное – главное это работа.” Была постоянная нехватка частного личного пространства. Все мои объекты, которые я потом начала делать это, как я их сейчас понимаю манифесты скрытых желаний. Потом я поняла, что их интересней делать как коллективный проект, т.к. работа над вещами выполняет роль трудотерапии – многие монотонные женские работы – вышивать большое пятно бисером, к примеру, помогают преодолеть состояние отчаяния. А еще этот проект возник из-за Наташи Сахаровой. Была такая женщина. Она еще с бабушкой была знакома. Ходила ей рассказывать про несчастную любовь. Потом она стала пить. Муж умер. Она жила за городом, с собакой, совершенно одна и спивалась. Приходила к нам время от времени. Мы ее кормили и выслушивали ее колоритные рассказы про трудную судьбу. Однажды она спросила: “нет ли у тебя для меня работы.” И я дала ей вышивать черное пятно бисером. Это было очень сложно сделать. До нее все отказывались от этой работы. А она вышила и просветленная пришла с требованием дать ей еще работу. Мне стало ясно тогда, что эти вещи могут иметь для меня смысл, только если они кому-то реально помогают в жизни.
Д. Твои работы и то, что сейчас вы делаете совместно с девушками, явно не вписываются ни в контекст fashion продукции, ни в контекст развития питерского искусства. Для fashion они слишком личны и печальны, для питерской традиции они слишком физиологичны, в них слишком много “менструальной крови”. Можем ли мы это расценить как политическую манифестацию?
Г. Да, выражение подавленного и есть мой протест. Сейчас я рискую обрасти последователями…
Д. Это очень важное замечание, т.к. обычно подразумевается, что тот, кто дает работу, эксплуатирует, а у вас возникают другие отношения в коллективе. Как ты строишь свою работу с девушками?
Г. Девушки, как правило, не знают, что хотят – им нет места в обществе, пока ещё нет личной жизни, и у нас происходит своеобразная терапия за счет участия в трудовом процессе. Создавая какую-то вещь, они становятся участниками творческого процесса. Я учу их творчески относиться к предметам, ситуациям и вещам. Объекты, которые мы делаем, манифестируют самые разнообразные скрытые желания. Они приходят ко мне и говорят: “мне так плохо, так плохо”. Я говорю, давай делать сумку, а из сумки вылезает вышитое письмо, где написано как ей плохо. Потом она звонит и говорит, а давай выложим дно осколками стекла. Я реагирую и говорю, что человек же руку поранит, лучше мех положить, она начинает понимать – так происходит терапия. Иногда я им даю литературные задания – например: ко мне приходит девушка и начинает жаловаться, а я ей предлагаю написать о том, что её волнует. И в процессе письма и обсуждения выясняется, что она может высказать, а что скрывает и, так становится видна граница частного-публичного. Мне очень нравиться то, что они пишут. Получаются особые артефакты их трепетности, их открытости миру. Главное, что возникает ощущение нужности, не экономической, хотя это тоже есть, а просто благодарности друг другу за то, что этот процесс происходит.
Д. Сегодня художник, во многом разочарован рамками, предлагаемыми арт-системой, и стремится заново раздвигать её границы, которые при этом, конечно же, никуда не исчезают. Кажется, что он может быть кем угодно – твоя роль это роль социального работника, психолога, режиссера массовых зрелищ, модельера? И как ты выстраиваешь собственно границы проекта, как искусства – каковы его эстетические особенности?
Г. Я работаю в вполне традиционных жанрах – перфоманс, объекты, видео, инсталляции, но так как во всем принимают участие девушки, то за их счет возникает много других элементов для меня чисто эстетических. Для меня девушка это нечто хрупкое и при этом очень сложное, она ещё не то и не это – она растет, в них много хаоса и мне кажется, что я работаю с ними как с материалом, который вызывает во мне чисто эстетические переживания. Но так как это взаимный процесс, то иногда можно сказать, что это они работают со мной. Мне нравится в своем творчестве отслеживать эти взаимодействия.
Д. А ты видишь этот процесс, как твоё личное взаимодействие, или же ты пытаешься развивать внутренние связи в группе?
Г. В начале я делаю ставку на персональный контакт. Но потом я всячески содействую их общению друг с другом. Но при этом я прекрасно понимаю пассивность девушек в нашей ситуации – они привыкли сидеть и ждать, когда принц придет, ничего не делать и ждать. Эти установки и надо преодолевать. Но это не просто.
Д. Ты говоришь о “внутреннем мире девушки”, о её “пустотности”, мне кажется, что подобная постановка вопроса приводит нас к наблюдению неких пассивных объектов, утративших свои социальные связи. С другой стороны и ты, и Цапля всегда занимали активную позицию, всегда выстраивали свои отношения с обществом и мужчинами, как социально активные субъекты – как ты пытаешься передать этот свой опыт девушкам и насколько это возможно?
Г. Я считаю, что без ясного понимания себя нельзя найти нормальную коммуникацию с обществом. Недавно я наткнулась на цитату Бойса. Он писал: “Для меня важна искренность. Нужно выяснить, что это представляет собой на самом деле. Нет никаких оснований скрывать свои пороки, недостатки или раны. Мир можно заинтересовать и побудить действовать только в том случае, если человек скажет: Мне нечего скрывать! Истинна в том, что я порочное, весьма несовершенное существо. И когда я показываю это другим, то начинаю тем самым творческий процесс. Эту рану, это несовершенство, эту фрагментарность нужно увидеть и лишь тогда можно будет двинуться дальше и взять у других то, что тебе самому недостает. Вообще лишь совместные проекты двигают человечество вперед”.
Д. Понятно, что мы все несовершенны и живем в несовершенном мире. Будет полной безответственностью и идеализмом надеяться, что путем особых практик, сосредоточенных на внутренних процессах мы обретем совершенство – это уже религия. Посмотри на наших феминисток, которые это начинали – все они декларируют уход во внутреннее и затем последовательно стали религиозными людьми. А это и есть тупик социального. Я уверен, что необходимо искать внутреннее становление в политическом и социальном действии. Я читал интервью с одной простой женщиной участницей забастовки где-то в российской провинции, она не занималась развитием своего внутреннего мира, просто ей нужно было выжить. И после забастовки, противостояния милиции, мафии и начальству она четко сформулировала, что после этой победы над начальником на работе, она уже не потерпит господина дома.
Г. Можно действовать по-разному. Можно от внешнего. Для меня важно понять свою “рану”, принять свой внутренний мир, а уже потом действительно лечить её можно разными способами…
Д. Но твоя “рана” и твой внутренний мир это социальная и классовая конструкция и это надо выявлять в первую очередь!
Г. Я не согласна, даже религиозное сознание, если оно кому-то помогает, должно иметь своё место. Я не считаю, что религию нужно уничтожить – у неё тоже есть социальная роль.
Д. Да – “опиум для народа”.
Г. Нет-нет, просто, может быть, мы нуждаемся в новых формах религии, и может быть искусство это тоже одна из них…
Д. очевидно, что “это подлость говорить за Другого” – мне нравится в вашей работе то, что вы на каком-то этапе самоустраняетесь, и даете девушкам возможность самим высказаться о себе. В тоже время, в вашей последней акции в трамвайном депо, было очевидно, что вы остаетесь такими мета фигурами, создающими пространство для этих высказываний и, тем самым, присваивающими – интерпретирующими их смысл. Как ты видишь возможностивыстраивания (и нужно ли к этому стремиться) равенства позиции?
Г. Я считаю, что неравенства нет – это коллективный продукт и это важно. У нас можно сказать равенство задач – девушки, как и мы с Цаплей, всегда стремятся заново открыть себя в публичном пространстве. Просто происходит это на разном уровне – мы художницы, а они нет. Но это здесь несущественно. Если бы они стали полноценными художницами, то тогда бы это была бы проблема. Я думаю, что коллектив бы распался, а сейчас просто мы ставим разные задачи.
Д. Как ты думаешь, или как ты видишь дальнейшее развитие тех девушек, с которыми ты работаешь? Профессиональное и личное?
Г. Я надеюсь, что все люди могут стать художниками. Все девушки очень талантливые, умные, добрые. Но, я не хочу оказывать давление, главное, чтобы они стали свободными людьми, которые понимают себя. А кем они там будут уже не важно. Но если таких, какими я хочу их видеть, будет в мире все больше, то это реально изменит всю ситуацию вокруг нас. Может это и есть та политика о которой мы говорили в начале?
Д. Конечно! Точнее это не сформулировать. Но, последний вопрос, имеет ли это какое-то отношение к любви?
Г. А как же иначе? Без любви, ничего этого не добиться. Я же девушек очень люблю. Очень волнуюсь за них. И юношей. Девушки сказали, что юношей приведут в следующем году.